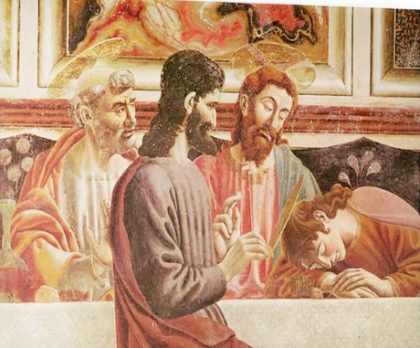У любимого поэта Бахыта Кенжеева Осипа Мандельштама есть такие строчки: “Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова – Как ее ни вывертывай, Криво звучит, а не прямо”. Имя и фамилия русского поэта Бахыта Кенжеева тоже звучат не “прямо”. Он родился в Чимкенте (Казахстан), вырос и учился в Москве. В начале восьмидесятых оказался в Монреале. Сейчас живет в Нью-Йорке и пишет удивительные, тонкие, мудрые и печальные стихи. В эксклюзивном интервью поэт рассказывает о тоске, ностальгии и том, кто для него символизирует сегодняшнюю Россию.
У любимого поэта Бахыта Кенжеева Осипа Мандельштама есть такие строчки: “Это какая улица? Улица Мандельштама. Что за фамилия чертова – Как ее ни вывертывай, Криво звучит, а не прямо”. Имя и фамилия русского поэта Бахыта Кенжеева тоже звучат не “прямо”. Он родился в Чимкенте (Казахстан), вырос и учился в Москве. В начале восьмидесятых оказался в Монреале. Сейчас живет в Нью-Йорке и пишет удивительные, тонкие, мудрые и печальные стихи. В эксклюзивном интервью поэт рассказывает о тоске, ностальгии и том, кто для него символизирует сегодняшнюю Россию.
– Бахыт Шкуруллаевич, я бы хотел начать нашу беседу с вашей недавней поездки в Казахстан. Как вас встретили на родине?
– Прекрасная была поездка. Я в Алма-Ате не был более десяти лет, поэтому ехал с огромным удовольствием, тем более, что у меня там родные с папиной стороны. Это очень приятный город, я его люблю, бывал там в детстве и юности много раз. Я участвовал в фестивале под названием “Полифония”. Задачей организаторов – поэта Павла Банникова и писателя Юрия Серебрянского – было сблизить литературы на русском и казахском языках… Прошло все отлично. Фестиваль привлек большой интерес. Кроме того, сами писатели пообщались друг с другом, а это всегда приятно.
– Каково сегодня ваше ощущение от Казахстана?
– В Казахстане я чувствую себя в большей степени на Родине, чем в России. Вот пример. Иду по улице – вижу арык. Для кого-то это экзотика, а для меня – воспоминания детства. Хотя и в Москве я чувствую себя на Родине, и в Канаде. Я, вообще, мальчик много путешествующий.
– Как вы относитесь к фразе: “Родина поэта – его язык”?
– В качестве русского писателя я с ней полностью согласен. Тем более, что казахского языка я не знаю. Но в Казахстане многие не знают казахский язык – это не считается трагедией. Конечно, русский язык – самое дорогое, что у меня есть.
– У Цветаевой есть такие строчки: “Тоска по родине! Давно Разоблаченная морока! Мне совершенно все равно – Где – совершенно одинокой Быть…”. Это всегда такой удел поэта – совершенно одиноким быть, или просто авторское преувеличение?
– И да, и нет. Гораздо более замысловатый вопрос, чем кажется. Всякий поэт состоит из человеческой и профессиональной составляющих. Они уживаются в одном теле. Ну какое одиночество у меня? Нет у меня никакого одиночества. Я счастливо женат, у меня много друзей, я все время путешествую по миру. В этом плане Господь ничем не обидел. Но когда шум и карнавал стихают, я остаюсь один за письменным столом. Здесь я, конечно, одинок. Любовь – занятие для двоих, поэзия – для одного и только для одного. Делает ли это поэта таким несчастненьким? Конечно, нет. Дар дорогого стоит, за него можно заплатить все что угодно. А что, разве обычный человек, не сочиняющий стишков, не страдает от одиночества? Водопроводчик тоже страдает от одиночества. Сидит за своим столом вечером, не спится, завтра на работу. У него жена, дети, друг Вася, друг Петя. И вдруг на него такая тоска находит. Он думает: “Боже мой, зачем я живу?” Берет бутылку водки, начинает пить и в слезах ложится спать. А если он водопроводчик интеллигентный – а такие бывают, кстати, и очень часто, – то он берет томик Есенина, допустим, или Мандельштама, или Баратынского. Они тоже были ужасно одинокие люди – певцы одиночества. Читает и вдруг чувствует, что и без водки ему хорошо. Как-то тоска куда-то ушла. Кто-то пережил это состояние и сумел его красиво выразить. Значит, в жизни есть какой-то смысл, черт подери?!
– Будучи в тоске, вы-поэты помогаете нам, читателям, избавиться от нее же…
– И композиторы, и художники делают то же самое. Одна из задач поэзии – борьба со смертью. Чего уж там говорить…
– Еще из Цветаевой, из того же стихотворения: “Всяк дом мне чужд, всяк храм мне пуст, И все – равно, и все – едино. Но если по дороге – куст Встает, особенно – рябина…”. Что является таким кустом рябины для поэта Кенжеева? Что может заставить вас вздрогнуть, вспомнить, оглянуться?
– Очень многое. Я как-то говорил, что слово “ностальгия” по-русски и по-английски имеют разные значения. Ностальгия по-русски – тоска по Родине, а по-английски – тоска по несбыточному или по прошлому, которое не вернется. Значения двух слов в этом частично перекрываются. Я думаю, что русская ностальгия – тоска по Родине – это разновидность более широкой, общечеловеческой ностальгии – тоске по ушедшему. Вот я только что говорил об арыках в Алма-Ате. Или если идти еще не разрушенным арбатским переулком, где я вырос, и там листья сухие ветер несет по бульварам… Эти вещи переводят любого человека в совершенно иное состояние – состояние восторга перед жизнью и глубочайшей печали. Кстати, неоценимый материал для стихов. Другой вопрос, что таких вещей со временем становится больше, потому что жизнь – это цепочка невозвратных потерь.
– Как место жительства влияет на вашу поэзию? Что изменилось в поэтическом языке Кенжеева московского, канадского и американского периодов?
– Я думаю, что ничего… Нет, я сейчас скажу… Ничего – это преувеличение. Конечно, появляются какие-то реалии, детали, подробности литературно осмысленного быта. Не жил бы я в Нью-Йорке, не написал бы стихотворения о Washington Square Park, как одном из самых замечательных мест на земле.
– В прошлый раз в беседе со мной вы говорили, что из ваших окон виден Нью-Йоркский университет…
– Да, мы живем на самой окраине кампуса в Гринвич-Виллидже. Выходишь на улицу и видишь огромное количество веселой нью-йоркской молодежи всех цветов радуги. Какие приветливые, приятные лица… У Гоголя есть разница между тем, что он писал в Риме, и тем, что он писал дома? Нет. Omnia mea mecum porto. Все свое ношу с собой.
– А мне кажется, ваше поэтическое слово меняется в сторону некоторой усложненности рифмы и содержания…
– Я с вами совершенно согласен. Но это другое – нормальная эволюция поэта. Задача поэта, как любого другого специалиста, – держаться в форме. Писатель просто обязан меняться. Все время писать одно и то же невозможно. Читатель – чрезвычайно капризный человек. Каждый на счету, каждого любишь по-своему. Не хочется ему надоесть. Приведу простую метафору: любовь мальчика к девочке. Полюбили друг друга, начали вместе жить, прожили пять-десять лет. Устаешь друг от друга. Нужно все время как-то стараться, меняться. Может быть, даже в лучшую сторону. Тогда будет счастливый брак. В поэзии то же самое. Жизнь стала сложнее, стихи – мрачнее. Хотя нет… Вряд ли… Всегда были мрачными…
– Все равно это процесс, обратный пастернаковскому: “Нельзя не впасть к концу, как в ересь, в неслыханную простоту”. У вас никакой простоты даже близко не видно.
– Пастернак не принадлежит к числу моих любимых поэтов. Никак. Я люблю Мандельштама. А Мандельштам как раз думал ровно наоборот. От гениальных, хрустально-чистых стихов юности он перешел к сложным стихам двадцатых годов, а потом к безумию тридцатых. Его стихи тридцатых и есть настоящая жемчужина мировой поэзии.
– Мандельштам для вас – главный поэт?
– Конечно. Назову еще Ходасевича и Георгия Иванова. И Есенина не хочу обижать. Он тоже – мой любимый поэт. Конечно, Баратынский, Пушкин… Но в XX веке лучше Мандельштама никого не было. Уже даже не спорят по этому поводу серьезные люди.
– Я где-то прочитал, что в детстве вы влюбились в стихи Надсона…
– Совершенно верно. Что ребенку нужно? Все чувствительно, все красиво зарифмовано. Мои родители работали в Москве в экскурсионном бюро. У них была новогодняя, как сейчас выражаются, “пати”. (Чудовищный нынешний постсоветский русский язык!) В общем, у них была вечеринка новогодняя с лотереей. Платишь пятьдесят копеек и что-то выигрываешь. Родители выиграли томик Надсона из малой серии “Библиотеки поэта”. Не то, чтобы они были нечитающие, но Надсон, честно говоря, никому не нужен был, откуда, собственно говоря, в условиях книжного голода и попал в лотерею. Очевидно, он был в свободной продаже. Я открыл томик и вижу: “Друг мой, брат мой, усталый, страдающий брат, Кто б ты ни был, не падай душой. Пусть неправда и зло полновластно царят Над омытой слезами землей… Пусть разбит и поруган святой идеал И струится невинная кровь, – Верь: настанет пора – и погибнет Ваал, И вернется на землю любовь!” Стихи произвели на двенадцатилетнего мальчика неизгладимое впечатление. “Красиво.” Кстати, бедный Надсон, который стал синонимом поэтической гражданской пошлости, умер очень рано, в двадцать четыре года. У него был огромный потенциал… Я этот томик досконально изучил. К концу жизни Надсон начал прорываться к настоящим, очень хорошим стихам. Не успел, бедняга… Он был неудачник.
– Когда вы стали сами писать стихи?
– В девятнадцать.
– Предполагали, что это – всерьез и надолго?
– Предполагал. Я стишки писал в школе еще. А тут сел и написал двенадцать стихотворений, которые считал совершенно гениальными. Одно я помню наизусть, но читать не буду… Конечно, это очень любительские стишки. Зря они мне так нравились. Но тем не менее они дали отсчет.
– А почему химия и химфак МГУ?
– Я очень любил химию и сейчас люблю. Я, правда, ее давно-давно бросил. Вот мы недавно с моим другом Петей, Петром Алексеевичем Образцовым написали замечательную книгу. (Мы вместе учились на химфаке и очень близко дружим до сих пор.) Очень рекомендую ее читателям. “Удивительные истории о веществах самых разных”. Как бы химическая книжка, научно-популярная. Поскольку я был одним из соавторов, там еще очень много поэзии и разговоров о поэзии. А как это сделано – пусть читатель увидит сам.
– Последний раз мы встречались с вами в Чикаго пять лет назад. Какими были для вас эти годы? Что сделано? Чем гордитесь? Вопрос из разряда: “Итоги пятилетки”.
– Переехал в Нью-Йорк. Мы с женой вместе уже одиннадцать лет, но съехались “full time” сравнительно недавно – лет пять-шесть назад. Я хотел в Монреале закончить кое-какие дела литературные. С одной стороны, доволен, с другой – не очень. Семейной жизнью очень доволен. Повезло на старости лет, что называется. С литературой… Тут виноват не переезд в Нью-Йорк, а другие факторы, а именно – то, что происходит в моем Отечестве, в Российской Федерации. То, что происходит там, меня здорово выбило из седла. За державу сильно обидно. Я же живой человек. Очень переживаю. В результате у меня совсем отключилась способность писать прозу, хотя я написал довольно много романов. Стихи, слава Богу, пишутся по-прежнему. Я написал, надеюсь, хорошую книгу за это время. Она вышла в Москве полтора года назад. Вторая на подходе. Еще у меня вышли две большие книжки в Москве. В общем, как-то так… Будни литературного ремесленника.
– Но ведь когда на родине начинаются “заморозки”, популярность набирают писатели, оказавшиеся на чужбине…
– Нет. Я могу сказать одну довольно горькую истину. В ужасных девяностых годах поэты были в моде. На этой волне было приятно кататься. Мы были богаты, а несчастные россияне были в нищете и относились к нам, как к полубогам. Это было, конечно, смешно, но тем не менее… Потом времена эти прошли. Перестали различать, кто – эмигрант, кто – не эмигрант. Один живет там, другой – здесь… Какая разница? А сейчас совершенно другие времена. Я не говорю о своем ближайшем окружении в Москве – там все нормально, – но когда мне приходится, в общем, довольно злобно спорить с моими когда-то единомышленниками, и они мне кидают в лицо: “Что ты там понимаешь в своей Америке?”, это как-то чрезвычайно обидно.
– Как вы отвечаете? Я говорил недавно с Иваном Никитичем Толстым. Он называет это “эпидемией паранойи”. Нечто неслыханное, чего раньше никогда не было…
– Это было, конечно. Бывало и хуже. Гораздо хуже было в тридцать седьмом году. При советской власти было примерно то же самое, в какие-нибудь семидесятые годы, но мы-то, несчастные, думали, что советская власть навсегда кончилась и закончился этот массовый психоз с девяносто семью процентами голосов, поданными за “нерушимый блок коммунистов и беспартийных”. И вдруг это возвращается. У меня волосы встают дыбом. Я не знаю, что делать. Что я отвечаю? Если человек вменяемый, то он, вообще, этих разговоров не заводит. Ему все равно, откуда я приехал. А если человек поддался психозу, то убедить его невозможно. У него становятся оловянные глаза, и он просто не слышит ничего. Просто не слышит. Это беда. Спорить с психозом нельзя. Нужен доктор. Я по природному любопытству слежу за направлениями в российской общественной жизни. Такой род мазохизма. Слежу и прихожу в ужас.
– Вы не только следите. Ваш литературный герой, даровитый самородок Ремонт Приборов – ведь это ответ тем самым восьмидесяти шести процентам российского населения…
– Это мой ответ, конечно, но Ремонту Приборову стало очень трудно жить и писать. То, что он писал в качестве очевидного для всех издевательства, сейчас – мейнстрим. Последние стихи Юнны Мориц, например, – это совершенный Ремонт Приборов. Только без юмора. Их невозможно пародировать. Они сами – пародия. Юнна Мориц – прекрасный поэт, кумир моей юности. И сейчас среди всего этого мутного потока у нее вдруг попадаются настоящие поэтические жемчужины. Она не сошла с ума. Я думаю, это массовый психоз.
– Но, несмотря ни на что, Москва остается интеллектуальным центром для носителей русского языка?
– Да, остается. В силу своих масштабов и концентрации людей. Хотя, черт его знает… Вот в Нью-Йорке сейчас живут – я вам перечислю – из поэтов первого ряда: Алексей Петрович Цветков, Вера Павлова, Андрей Грицман, Владимир Гандельсман, молодой Александр Стесин…
– Включим и вас в этот список. Вы, Цветков и Гандельсман – уже этой тройки достаточно, чтобы выиграть Олимпиаду.
– Не совсем. В Москве живут Гандлевский, Рубинштейн, молодая Мария Ватутина… Вы знаете, я как-то задумался, что между нами – нью-йоркскими “обмылками” – общего, кроме личной дружбы, а потом сообразил. Никто не поддержал возвращение Крыма в лоно Российской Федерации. Ни один человек. Это немало! Я знаю многих вполне приличных людей в Москве, у которых при слове “Крым” становятся стеклянными глаза. И оловянными, и деревянными…
– Что дальше, Бахыт Шкуруллаевич? “Что же будет с родиной и с нами?”
– Это надо спрашивать у Господа Бога, и он вам, может быть, ответит. А, может быть, и нет, потому что его главная задача – посылать нам испытания. Хотелось бы верить, что свет будет. “Жаль только – жить в эту пору прекрасную Уж не придется – ни мне, ни тебе.”
– Моя молодость пришлась на время перестройки, и я думал, что это – навсегда!
– Когда началась перестройка, я думал, что через двадцать лет Россия станет Чехией, а она стала Нигерией. Что поделать? Еще одно испытание выпало на нашу долю Только, пожалуйста, без обобщений. Это все временно, временно… Мои нью-йоркские друзья, которые любят Россию меньше, чем я, спрашивают меня: “Чего ты все время туда мотаешься?” – “Я ее люблю.” – “Ну что ты там любишь? Что такое – твоя Россия?” После долгих унижений я, наконец, нашел одно-единственное слово. Одно, но его достаточно. Я нашел человека, который для меня символизирует Россию. Это – Лев Рубинштейн. Вот он для меня сегодняшняя Россия и есть.
– Можно, я вынесу эти слова в заголовок?
– Конечно, можно. Левочке будет ужасно приятно. Он – отважный, смелый, умный, талантливый, с чувством юмора человек, который, как публицист, воплощает для меня все лучшее, что есть сегодня в России. Есть и другие люди, но он для меня как-то уж очень правильный в хорошем смысле. Правильный мальчик.
– Но ведь с точки зрения поэзии ваши пути различны?
– Он очень талантлив, и у нас есть, кстати, некоторые точки схождения: мы оба были близкими друзьями Дмитрия Александровича Пригова. Я с большим уважением и даже с любовью отношусь к творчеству Рубинштейна. Другой вопрос – я так не умею и не хочу писать. Но это мое личное дело.
– Литературоведы вас все время разводят по разным лагерям…
– Все это ерунда. Единственное, что дает хорошему поэту возможность существования, – усвоить мировую культуру… И то необязательно. Были исключения, которые ничего не читали. Например, царь Давид. Он вряд ли читал мировую литературу, поскольку ее не было. Это первое – необходимое, но недостаточное условие. А второе – душа. Можно писать, как угодно, но главное – чтобы это было написано слезами и кровью, а не пером, которое ты повязал к левой ноге и пишешь на публике без штанов, чтобы публику заинтересовать. Если говорить о модернистах – а Левочка, конечно, модернист, – то слушаешь внимательно его “Стихи на карточках”, и хочется плакать. Хорошими слезами, просветленными. Вот этого ни один другой модернист не умеет. Для меня вопрос “кто как пишет” безразличен при условии соблюдения вот этого главного условия. Вот скажем, что у меня может быть общего с Всеволодом Емелиным? Человек пишет хулиганские стишки без рифмы и от лица якобы сантехника. Замечательные стихи: веселые, правильные, похожие на Иртеньева, но другие. Мне кажется, у него есть своя и очень приятная ниша в русской поэзии. Кстати, обратите внимание: этот мальчик, пишущий хулиганские стихи от лица сантехника, в каждом стихотворении цитирует то Мандельштама, то Блока, то Пастернака. Абсолютная начитанность. “Косит” под простого, а в реальности все далеко не так просто.
– Вы – лауреат двух премий: новомирской премии “Антология” и Русской премии. Как вы относитесь к премиям? Они важны для вас?
– Я отношусь к ним очень хорошо. Я их люблю. В России и вообще в СНГ институт премий гораздо важнее, чем в Америке, потому что совершенно не развит институт грантов. Его просто нет. Он есть на издательское дело, но живым писателям их не дают. Всякая тысчонка пригодится. Правда, есть премии и без денег. Вот мне сейчас в Алма-Ате дали замечательную премию “Золотой асык” журнала “Тамыр” (в переводе с казахского – корень). Мне было ужасно приятно. Сейчас она стоит у меня на полке. А вот когда вокруг этих премий разгораются подковерные схватки нанайских мальчиков – вот это увольте. Никогда в жизни не участвовал и не буду!
– Еще одна тема последнего времени – присуждение Нобелевской премии моей землячке Светлане Алексиевич. Какая буря поднялась в русскоязычном мире?! “Как можно, это не литература, это дискредитация премии…”. Как вы относитесь к ее творчеству?
– Я ее творчество плохо знаю. Когда ей присудили премию, начал читать ее книги. Могу сказать две вещи. Во-первых, это очень интересно читать. Во-вторых, не надо говорить, что “non fiction” – это не литература. Одно из величайших произведений XX века “Архипелаг Гулаг” написано в жанре “non fiction”, и это не просто литература, а великолепная литература. Книг с теми же фактами, что в “Архипелаге…”, появилось в момент публикации, если не ошибаюсь, больше сотни. Тем не менее мир перевернул именно “Архипелаг…”. Перевернул за счет его художественных достоинств. “Non fiction” – это не изложение фактов, не научпоп. Есть такой писатель – Видиадгар Нейпол. Он пишет замечательные романы, но у него есть и чудесные книги из серии “non fiction”, написанные в жанре книг-путешествий. Они ничем не хуже его романов. Просто надо расширить понятие “литература”.
– Можно вспомнить еще “Остров Сахалин” Чехова…
– И “Записки из Мертвого дома”, и “Фрегат “Паллада” Гончарова. Это – великие произведения мировой литературы в жанре “non fiction”… Заслуживает Алексиевич Нобелевской премии или нет – меня это абсолютно не интересует. Нобелевская премия – как лотерея. Она иногда достается более достойным, иногда – менее. Когда она достается очень талантливому человеку, единственная моя реакция – радость. А реакция Захара Прилепина, что Алексиевич и не писатель, и антисоветчик… Да пошел он… Зависть это. И у него, и у Лимонова. Они хотят, чтобы их пускали в приличные дома. Они эти дома ненавидят, но очень хотят, чтобы их туда пускали.
– Передо мной два стихотворения: Мандельштама и Эдуарда Асадова. Что делает стихотворение Мандельштама гениальным? Можно ли сформулировать это словами?
– Нет. Нельзя сформулировать талант и гениальность. При этом к Эдуарду Асадову я отношусь очень хорошо. Он был честный и порядочный человек, который позволял фабрично-заводским девушкам переписывать свои стихи в тетрадки и жить ими вместо того, чтобы пить водку и трахаться с фабрично-заводскими мальчиками. Мне кажется, достаточная заслуга… Нет такого критерия. Я мог бы назвать один критерий, но он опять же необходимый, но недостаточный. Бескорыстие. Поэт должен быть абсолютно бескорыстен. Он ничего не должен требовать для себя. Может быть, это даже критерий номер 1. Он должен писать, как писал царь Давид…
– Вы привезете в Чикаго свои книги?
– Михаил Рахунов хочет издать маленький томик моего избранного: шестьдесят четыре стихотворения. Я попросил его отобрать стихи. Я ему доверяю. Зная Мишу, уверен, что он это сделает и будет очень репрезентативная книжечка.
– В каком формате пройдет ваша встреча?
– Сначала стишков много. Блестящих. Потом – вопросы-ответы. Я обожаю отвечать на вопросы. Приходите, все будет очень хорошо. Посетители моих вечеров в Москве, Алма-Ате, Нью-Йорке, Питере, Германии и во многих других местах не жаловались. Все уходили довольные. Так что рекомендую. Пока я живой – пользуйтесь! (Это была небольшая самореклама в конце беседы.)
Nota bene! Творческий вечер поэта Бахыта Кенжеева состоится 6 декабря 2015 года в 7.00 pm по адресу: 615 Academy Drive, Northbrook, IL 60062. Заказ билетов – по телефону 847-498-3400 и на сайте www.unite4goodradio.com.
.
Сергей Элькин
http://sergeyelkin.livejournal.com/
PS. Выражаю благодарность поэту и переводчику Михаилу Рахунову за помощь в организации интервью.
.