Писатель, драматург, сценарист и телеведущий Эдвард Радзинский (род. 23 сентября 1936) в программе Алексея Венедиктова „Интервью“ на радио „Эхо Москвы„.

Слушать интервью:
Част 1.
Аудио
.
Част 2.
Аудио
.
Част 3.
Аудио
.
Читать интервью:
Венедиктов― Добрый день! У нас в гостях — Эдвард Радзинский, писатель.
Э.Радзинский― Писатель?..
А.Венедиктов― Писатель. А как вас назвать — фантаст, фантазер?
Э.Радзинский― Вы знаете, была у Пильняка очаровательная фраза: «Кто вы такой?» — спросила девица. «Писатель», — ответил я. И девица записала: «Писец».
А.Венедиктов― Вот у нас точно писец. Ну, у нас Владимир Ильич Ленин — литератор. Какая разница между писателем и литератором?
Э.Радзинский― Дело в том, что когда человек справедливо, как сказал Маршак, говорит «Я писатель», то это он говорит: «Я хороший». Когда он говорит: «Я литератор», — он как бы вообще…
А.Венедиктов― Нет, литератор — это плати деньги, называется. Это профессия.
Эдуард Станиславович, смотрите, сейчас, конечно, снова возникает большой интерес у общества к личности Сталина в разные периоды — и к его семинаристской деятельности, но, прежде всего, очень много появилось разных соображений по поводу того, как он ушел из жизни — вот последний период его жизни.
У вас был роман… то есть есть роман (романов бывших не бывает, как известно), это художественное произведение. И вы там — это спойлер — говорите о том, что благодаря двойнику он был убит. Ну, совсем просто. А на самом деле как?
Э.Радзинский― У меня было два периода. Первый период, когда я решил написать подлинную биографию Сталина абсолютно на источниках. Это должно было быть. Потому что произошла невероятная история, по-моему, последняя.
Это было начало 90-х, когда власть немножко занималась настроениями интеллигенции, она была растеряна, так назовем. И я решил для того, чтобы написать подлинную биографию, историческую, попасть в президентский архив, потому что туда поступил личный архив Сталина. Я не знал, как это сделать.
Один из наших выпускников тогда, он, по-моему, заведовал этим архивом. Я позвонил ему, я знал, что он ко мне дивно относится. Я ему сказал: «Как попасть в президентский архив? Мне нужно не много, дня на три. Я хочу просто посмотреть бумаги, ну так… дотронуться». Он сказал: «Ответить точно?» — «Да». — «Это нельзя никогда», — сказал он. И я так и понял. Но я решил все-таки, я не знаю, почему, я же не упрямый… Я всегда радуюсь, когда с меня сняли груз дела, действа. А тут я чего-то… И решил позвонить тогдашнему руководителю администрации Филатову.
А.Венедиктов― Сергею Филатову.
Э.Радзинский― Да. И услышал… я понял, что ничего не изменилось. Так я звонил когда-то Демичеву. Мне сказали: «Он вышел. Ой, как жалко, что вы… Вот сейчас он… Ой, опять…, — Вот Филатов выходил, уходил, — поехал в ЦК, — тогда еще, по-моему, был, — Сейчас вернулся… Ой, поздно…».
И всё надоело, и я сказал: «Да, спасибо! Я всё понял. Привет товарищу Филатову». Он еще был товарищ. И я сидел вечером поздно. Раздался звонок. Я подошел. Тысячи в этот момент звонков… У меня шло 9 спектаклей в Москве тогда сразу…
А.Венедиктов― И все билеты просили.
Э.Радзинский― Да.
А.Венедиктов― Звонки-то за билетами.
Э.Радзинский― Да. И мне было не до чего. Говорят: «Здравствуйте!» Я говорю: «Здравствуйте, — я дословно говорю. — Я вам докладываюсь. Это Филатов». А я не помнил… «Какой Филатов?» — сказал я. Он говорит: «Но вы же мне звонили».
И тут я понял, что перестройка есть. Он мне сам позвонил! Это было невероятно. Это был первый высокий чиновник за всю мою долгую жизнь. Он мне позвонил. Я говорю: «Да, я вот… — начал косноязычно — мне бы туда, в архив…». — «Какой архив?» Я говорю: «В президентский бы попасть немножко, на три-четыре дня». «А-а, вам в архив, — сказал он, — президентский?..» — «Да-да». — «А что?» — «Я пишу про Сталина, биография… Вот мне нужно». Он сказал: «Ну, что ж, это можно». Я очень удивился, безумно. Я сказал: «Да?» Он сказал: «Только, вы знаете, наверное, надо отношение вам принести». Тут я понял, что это знакомое, я говорю: «Из Союза писателей?» Он говорит: «Ну да, из Союза писателей». Потом остановился и сказал: «Ну, давайте считать, что вы уже принесли. Вот это было что-то!
А.Венедиктов― Раздумчиво.
Э.Радзинский― Да. И он мне сказал: «Спасские ворота. Вы придете. Там покажете паспорт». И я в первый раз в жизни пошел через Спасские ворота. Вы знаете, еще помните, это Кремль — это было нечто из другой… как Венера, как Марс. Они жили там. В школе нас водили к Кремлю и показывали вечером специально горящее над стеной окно и говорили: «Вот вы ляжете спать, а Он будет работать. Он там работает». И мы, школьники смотрели на это окно, человека, который там работал. Это было таинственнейшее здание.
И я пошел туда. Мне объяснили, куда там дальше. Это был, по-моему, второй этаж, но высокий. И там стояло вынесенное зеркало, такое псише, дамское. Я понял, что когда-то это, видимо, была жилая квартира. Я позвонил. Мне открыли. Крохотные каморки. И кто-то сказал: «Так, вы будете сколько?» Я сказал: «Ну, дня три-четыре». Я, по-моему, там было месяц, я уже не помню. Но это было всё равно всем, по-моему. И мне тоже. Нельзя было оторваться.
Там допотопная была система. Надо было нажимать кнопки — выскакивали эти документы. Но не важно. Где-то через два-три дня я спросил все-таки: «А это что, была квартира?» — «Да, это была квартира. Мы сейчас отсюда переезжаем. У нас будет здание особое. У нас уже стоят ящики». — «А-а…», — говорю я. Он так посмотрел и говорит: «А вы что, не знаете?» Я говорю: «Что?» — «Чья это квартира?» Я говорю: «Нет». — «Это квартира Сталина. И я понял, что я под его потолком, отражаясь явно в его вынесенном зеркале, буду это писать. Более того, — я сто раз про это говорил — там были стеклянные ручки 30-х годов, я их знал.
А.Венедиктов― Вот эти чернильные прозрачные.
Э.Радзинский― Прозрачные, точно. То есть они хранили эти рукопожатия. А я абсолютно знал, что они не умирают, они прячутся в природе, и он здесь присутствует. Особенно поразительно — это были подлинники — это были письма его матери и ответы.
А.Венедиктов― Когда он уже был в Москве.
Э.Радзинский― Когда он уже всё… когда уже жены нету. Она заботилась, писала. Это тот период сказочный, когда он что-то придумывал… Когда она сказала: «Кем ты…?». — «Я вроде царя». — «Лучше бы ты стал священником». Это великая фраза, которую повторял Павленко отцу бесконечно. Это как внедрялось в народ.
А.Венедиктов― Так она была?
Э.Радзинский― Что?
А.Венедиктов― Фраза. Вы нашли?
Э.Радзинский― Конечно.
А.Венедиктов― В письме?
Э.Радзинский― Нет, в письме не было. В письме были заботы о том, как он живет, кто за ним ходит. Нормальные письма матери. И все эти разговоры о том, что он ее ненавидел, что он подозревал, что он Пржевальского — это любимое… Причем, вы знаете, публиковали так, чтобы они были похожи.
А.Венедиктов― На самом деле есть такой портрет, я бы сказал, не портрет — гипсовая голова.
Э.Радзинский― Один к одному.
А.Венедиктов― Пржевальский.
Э.Радзинский― Да, он с усами, Пржевальский.
А.Венедиктов― Но в мундире.
Э.Радзинский― Это поощрялось.
А.Венедиктов― Поощрялось?
Э.Радзинский― Уверен, это поощрялось. Дело в том, что как только начинался слух, за который грозили, но не сажали, это они внедряли. Так же как главный слух страны: «Он не знает», в который все старательно верили.
Я до сих пор не понимаю некоторых вещей, прожив с ним уже большую жизнь. Я понимаю, революция. Француз Мерсье, который депутат Конвента был или чего-то, а потом продолжал жить уже при империи и так далее. Его спрашивают: «Чем вы занимались во время революции?» Он говорит великую фразу: «Я выживал». Потом его спрашивают: «А вот сейчас для чего вы живете?» Ему уже бог знает, сколько лет. Он говорит: «Чтобы узнать, чем кончится». Вы, понимаете — вот чем кончится?
Поэтому я себя чувствовал, беря эти бумаги и помня то время, когда все жили с чемоданчиками. Вы знаете, отец работал с Эйзенштейном. Дело в том, что если вы выйдете в интернет, там есть пьеса «Ричард Дарлингтон». И перевод и сценическая обработка Эйзенштейна и Станислава Радзинского. Они работали вместе.
И этот поход к Сталину после фильма «Иван Грозный», он же удивителен. Почему он удивителен — потому что они тогда поняли, что… Что они поняли? Иосиф Виссарионович в (47-м году?) смотрит 2-ю серию фильма, и она справедливо вызывает у него дикие эмоции. Когда выходит Большаков, министр кинематографии, у него какое-то странное лицо. Никто не понимает. У него один глаз полузакрыт, видимо, от полуинсульта, а второй широко открыт и в нем — ужас.
Потому что Эйзенштейн болел в это время, и Сталин посмотрев, сказал это знаменитое «Кошмар!», и что-то еще. И все поняли… Эйзенштейн понял, что лучше надо чемоданчик, чтобы был уже рядом.
И вдруг как бы ему сказали — это не он решил, — что надо просить новой аудиенции у Иосифа Виссарионовича. И состоялась историческая встреча.
Вам как историку, интересно, что здесь великим историком выступал Иосиф Виссарионович.
А.Венедиктов― Да.
Э.Радзинский― Как потом он будет великий языковед, великий мелиоратор будет, орошением заниматься, Он знал всё. И историю. Первый вопрос: «Вы хорошо знаете историю?» Эйзенштейн понял, что нельзя… хорошо знает историю у нас один. Он сказал: «Более или менее». По-моему, это великая фраза. И Иосиф Виссарионович начал ему объяснять историю. Эту формулу — она общеизвестна, — что опричники — это не Ку-клукс-клан поганый, а это — регулярное войско…
А.Венедиктов― Прогрессивное.
Э.Радзинский― Которое он сделал, «невероятно прогрессивное, потому что оно боролось с оппозицией», — сказал Иосиф Виссарионович. И там же присутствует и Жданов и Молотов, которые вставляют периодически реплики. То есть он не один. Всё Политбюро знает историю. Вот они все ему объясняют. Иногда Иосиф Виссарионович немножко ошибается. Говорит: «Вот Иван Грозный в отличие от Петрухи, — так именуется Петр Великий, — иностранцев не терпел».
Это абсолютно неправда, потому что Иван Грозный не просто терпел иностранцев, он попытался получить через Ливонию всех специалистов: по артиллерии, по медицине.
А.Венедиктов― Как Петруха.
Э.Радзинский― Как Петруха. У него был Бомелиус, которого он потом сожжет…
А.Венедиктов― Доктор.
Э.Радзинский― Он был и доктор и астролог и всё. Один из главных фаворитов. У него был Дженкинсон, Горсей, с которым он встречался и показывает ему эти знаменитые драгоценности. То есть он как Петруха, за что Петруха его любил. Потому что во время мира со Швецией, официального торжества, когда те признали завоевание, было портрет Ивана Грозного и с подписью: «Начал». И потрет Петра. Как бы — закончил, осуществил.
А.Венедиктов― Петр, Петруха очень любил Ивана, как и — мы потом к этому вернемся, — очень любил. И Иосиф Виссарионович, так как правильно… Ну, что такое история? Ну, такое блюдо, которое несут официанты бегом власти. Каждый раз в связи с изменениями жизни, оно меняется, потому что никакой истории нет — есть политика обращенное в прошлое, и мы ею занимались и будем заниматься всегда. Поэтому Иосиф Виссарионович решил быть историком.
И он продолжает его учить. Он говорит: «У вас Иван Грозный, он вроде Гамлета, какой-то нерешительный».
А.Венедиктов― Мечется там…
Э.Радзинский― А он был очень решительный, действительно. И в конце он говорит: «Но ошибки Ивана Грозного обязаны точно сказать». А ошибки у Ивана Грозного какие? Он не дорезал в этой борьбе с оппозицией несколько мятежных семейств. И именно поэтому было Смутное время. На самом деле Иван Грозный дорезал.
А.Венедиктов― Перерезал.
Э.Радзинский― Он до того дорезал, что, когда начнутся крушения страны, там не останется людей. Там останутся только специалисты подковерной борьбы, там останутся только угодники. Там же произойдет жуткое. Они будут перебегать — бояре — из одного лагеря царя Василия в лагерь Тушинского вора и обратно. Это «перелеты» будет называться.
Более того, что произошло со страной? Они сначала предали Бориса Годунова, потом самозванца. Потом выдадут своего царя Василия Шуйского полякам. То есть каждый день было клятвопреступление, предательство. Он дорезал. В этом-то был весь ужас. Поэтому он отец Смутного времени. Поэтому Авраамий Палицын говорит изумительную фразу — ее надо выбить: «Одна из причин — безумное молчание. Уже истину царям не смеющих глаголить, Не смеющих сказать истину своим царям. Безумие народа, безумное молчание».
И он всё это знает. Эйзенштейн, выйдя, понимает одну вещь — что в уже наглухо закупоренной стране, — потому что действие происходит после речи Черчилля, после начала этой бешеной канонады по поводу иностранцев и засранцев… Иосиф Виссарионович, как Симонов пишет точно, это была любимая рифма: иностранцы — засранцы, — и в этой наглухо закупоренной «железным занавесом», как сформулировал Черчилль, стране, он решил дорезать. Он решил дорезать оппозицию.
И смерть Иосифа Виссарионовича наступила в пик… это уже на днях должно было начинаться. Ведь, понимаете, есть легенда, которую и у Алилуевой вы найдете о том, как он ужасно себя чувствовал, как он болел. Там Гарриман, по-моему, уже пишет, что инсульты, инфаркты с ним случились, что не выходит с дачи и так далее. Хрущев, создавая эту легенду и, видимо, уже объясняя, почему он умрет, Рассказывает, что накануне XIX съезд…
А.Венедиктов― Осень 52-го.
Э.Радзинский― Это октябрь, 52-й год, то есть считанные месяцы до смерти. И Хрущев говорит, что Сталин выступал на XIX съезде… говорил 7 минут: «А выходит и говорит: «А я еще могу». А сам 7 минут говорил. Тут мы поняли, как он физически слаб». Но он лжет. Потому что буквально вслед за этим общим заседанием были выборы, как вы знаете отлично, руководящих органов. Во время этих выборов мы включаем того, кто его очень любил и блистательно описывал — Симонова…
А.Венедиктов― Константина.
Э.Радзинский― Да. Он присутствовал на этом заседании. Он же был кандидат в члены и так далее.
А.Венедиктов― В члены ЦК, да.
Э.Радзинский― И он пишет невероятную вещь: «Сталин вышел. Зал, как всегда, поднялся. Но он жестом посадил зал на место. Заседание продолжалось два часа», — из них полтора заняла речь «физически слабого» Сталина. — Он говорил без бумажки, цепко и зорко, вглядываясь в зал». В другом месте у него будет эпитет «вцепившись в зал». Он сразу сказал, что он стар и привык выполнять хорошо свою работу, поэтому он просит освободить его от обязанностей генерального секретаря. И тот описывает, как в ужасе это лицо Маленкова…
А.Венедиктов― Сзади президиума, за спиной…
Э.Радзинский― Да. — «Да нет!» А тот уже хочет перейти ко второму вопросу, как будет вспоминать другой бывший… Он поднимается сзади и, шепотом крича…
А.Венедиктов― «Шепотом крича».
Э.Радзинский― Да. «Просим! Просим остаться». И весь зал, воспитанный судьбой XVII съезда, который не сумел быть таким лояльным, вместе, в одном порыве: «Просим! Просим остаться!»
Вы, понимаете, что не сказал Сталин Эйзенштейну. Он не сказал то, что я нашел и потом был потрясен. Я искал все время тогда документы… У него архив был слабенький. Они подчистили. Дело в том, что со Сталиным в ночь на 1-е, а 2-го, когда он еще живой лежит, дышит, они уже вошли в его кабинет — Берия, Маленков, Хрущев — и там начали чистить. Потом им Политбюро даст официальное право привести в порядок бумаги Сталина. Они привели в такой порядок, что там делать нечего историку.
Но это дело поразительно. Я потом продолжал искать документы. И в РЦХИДНИ — это бывший Институт Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, бывший партархив — я нашел книжечку. Вот этого я не забуду. Это была пьеса Алексея Толстого «Иван Грозный» о Сталине. И там несколько раз было написано одно и то же слово «Учитель, учитель».
А.Венедиктов― Рукой Сталина.
Э.Радзинский― Рукой Сталина, да.
Венедиктов― Эдуард Радзинский у нас в эфире. И на брошюрке, которую вы нашли в архиве, рукой Сталина на пьесе.
Радзинский― Да.
Венедиктов― Толстого Алексея Николаевича. «Мариола Орлицкая», он назвал.
Радзинский― Я не помню.
Венедиктов― «Иван Грозный», было написано несколько раз рукой Сталина «учитель».
Радзинский― Учитель… это было невероятно. И вы знаете, потом я понял одну вещь. Дело в том, что Герасимов в Интерполе, наш знаменитый, которому разрешали вскрыть гробницу Тамерлана накануне войны, он решил вскрыть гробницу Ивана Грозного. И он ему не разрешил.
Венедиктов― Ну как же не?
Радзинский― Он раскроет гробницу в 1961 году.
Венедиктов― А, вот откуда мы знаем этот портрет.
Радзинский― Это не просто портрет, это Иван Грозный, который глядит в тогдашний ХХ век. Потому что ничего подобного Герасимову не удавалось никогда, у него просто… это художественное великое произведение. Это что-то невероятное. Я много раз пытался, смотрел этот хищный византийский нос, эти сладострастные губы. И этот… как… он же глаз не видел, но с этими вставленными глазами это фантастика. То есть весь Иван Грозный. Я не могу на этот портрет смотреть. И я пытался понять, и вы знаете, несколько раз он буквально продолжает это дело. Значит, помните, все там, Сталин сбежал во время войны из Кремля? Нет, он не сбежал – нет, он сбежал, он от страха, он не от страха, — и так далее. Иван Грозный, как мы с вами знаем, перед тем, как основать опричнину, уезжает из Кремля неизвестно куда и через некоторое время народ в Москве понимает, что царь исчез. Но это определенная страна. Здесь, как напишет наш историк великий, легче представить страну без народа, чем без царя. Потому что вся страна – это вотчина царя. Она ему принадлежит. А все население – оно пришло на его вотчину. Это вотчинное сознание московских великих князей. И царь исчез. Ну, как жить? Потому что царь же не просто заступник во время татарских набегов, он должен… он еще и должен молиться за народ. Без него это конец страны. И они, поняв, что они сироты, решают потребовать от уже обличаемых ими, им, Грозным, бояр и, что страшнее, и еще иерархов церкви, чтобы они шли к нему на поклон.
Венедиктов― Просим остаться.
Радзинский― Да, вы совершенно правы. Чтобы они шли просить остаться. А он уже грамоты же прислал, что он не потерпит больше вот этих претительных докук, как он называет, во время – гениальная формула.
Венедиктов― Гениально. Претительные докуки. Просьба о помиловании, это же просьба о помиловании – претительные докуки.
Радзинский― Претительных докук он больше не потерпит! И он требует от них согласия, он сообщает о своих опалах и на бояр, и на церковных иерархов, и сообщает народу, купцам и жителям, что никаких «опал», никаких у него «ненавистей», «бед» по отношению к ним нет. Более того, появляется уже тогда версия – то ли в этом, по-моему, в этом уже – что они, бояре, отравили его голубицу. Отравили. И, значит…
Венедиктов― Что-то мне это напоминает.
Радзинский― Вам это напоминает вот то, что описал человек с забавной фамилией Чадаев. Я не знаю до сих пор, издали ли эту рукопись, я ее нашел там, в архиве, где это… он был глава управ делами Совнаркома. И Иосиф Виссарионович… так как запрещено было стенографировать заседания политбюро, писали только краткое содержание.
Венедиктов― И решение.
Радзинский― Да. Этим занимался Чадаев. Он без «а» второго. И он и писал все, что происходило. Он написал этот ужас, когда нету Иосифа Виссарионовича. Вот был – 29 этого было – 2 дня его не будет. Все приходят, все «надо подписывать – война». Это июнь-месяц, вы представляете? Его нет. Дача не отвечает, то есть все знают, что он жив, но никакого ответа. Все идут к Поскребышеву, Вознесенский требует, Молотова просит подписать. Но Молотов знает, что сложно все, подписывать не надо, потому что подпись – это подпись на том обвинительном заключении, которое будет. И никто не подписывает. И военные, они боятся военных, они понимают, что они без него беззащитны. И они все поедут к нему. Вы помните, как встретил Иван Грозный депутатцы? Они его не узнали. У него было землистое лицо и почти все волосы вылезли.
Венедиктов― Да, и черное монашеское одеяние.
Радзинский― Да, он был печален. Иосиф Виссарионович их встретил без выпавших волос, но с землистым лицом, необычайно похудевший, и сказал: «Вот Ильич посмотрел, до чего мы довели страну», — сказал Иосиф Виссарионович, думая внимательно, цепко и зорко вглядываясь в лица пришедших. Письма идут от народа: «Когда прекратится это наступление, это отступление?». «Может быть, некоторые из вас не прочь возложить всю вину на меня?» И тут, уверяю вас, цепко и зорко, и тут Молотов знает, что кто не успел, тот очень опоздал. Очень. Поэтому он первый прямо вскакивает и кричит: «Если бы такой подлец нашелся, то я бы плюнул!» — и так далее, он говорит, с ним сделал. И «нет, нет», — говорит Иосиф Виссарионович. «Может быть, есть кто-то лучший, которые бы?..» — «Никого нет! – кричит уже Ворошилов. – Возвращайся, возвращайся!» И, по-моему, 3 июня он вернется.
Венедиктов― Июля.
Радзинский― Июля, да, конечно. Он вернется, обличенный всеми титулами.
Венедиктов― И скажет «братья и сёстры».
Радзинский― И скажет «братья и сестры», что к вам обращаюсь я, друзья мои… Это было. И объявит Отечественную войну, которую, конечно, продумал там. И это первое. Второе, конечно, история с отравленной голубицей. И вот здесь самое интересное, для него очень похоже. Он знает, что его жену отравили не ядом. Отравили хуже – идеологически. Вы знаете, что она все время выступала, потому что промышленная академия, где она училась, это были бухаринцы. Более того, Бухарин рассказывает Анне Лариной, а та…
Венедиктов― Жене.
Радзинский― Да. Потом пишет в этих воспоминаниях, по-моему, что он идет с Надей. Бухарин приехал раньше, видимо. И идет с ней.
Венедиктов― С Надей, женой Сталина.
Радзинский― И догоняет Сталин сзади и тихо говорит Бухарину на ухо: «убью». Не, не потому, что он ревнует, естественно. А потому что он ее травит. И его личное удивительное чувство, Бухарина – это очень, это такой Достоевский, такой роман. Ведь они обмениваются квартирами после ее гибели. И Бухарин переезжает в квартиру, где она покончила с собой, а Сталин – в квартиру Бухарина, причем мебель, по-моему, там не меняется. И у тех, и у других продавлены… никто не занимался тогда, это было невозможно – заниматься антикваром, мебелью и так далее. Я помню, Фурцева жаловалась: «Но они же покупают в антикварных магазинах эту мебель». То есть большевик – это было невозможно. Сталин же выбрасывал все к ужасу ее. И это тоже похоже. И дальше – самое похожее. Это отставки. Отставки и, причем, почти буквально. Сталин – великий, как положено, ну, любому диктатору – актер. Там, Наполеон берет уроки у Тальма.
Венедиктов― Великого актера.
Радзинский― Да. Восхитило: он берет уроки у Тальма. Притом дальше Тальма сидит в кабинете, около кабинета Наполеона и там идет в опаль. Из кабинета он орет на английского посла. «Где Мальта, которую вы мне обещали?! Вы, рыбья нация, и если посмеете вынуть шпагу, я последним вложу свою в ножны! Готовься к крови, к великой крови, Англия!». Тут выбегает из кабинета мокрый от ужаса посол и уходит. Потом выходит спокойный Наполеон, спокойно смотрит на Тальма и говорит: «А по-моему я неплохо сыграл ревнивого мужа, обманутого мужа». Да. И после этого он говорит великую фразу: «Дорогой Тальма, у политика гнев не должен подниматься выше жопы». Поэтому Иосиф Виссарионович, вслед за другими, великий актер. И Гронский – ну, вы знаете, тот, кто заведовал культурой во время первого съезда писателей, который якобы и придумал этот замечательный термин «социалистический реализм». И он пишет, очень любя Сталина: «Иосиф Виссарионович был великий актер, он очень любил разговаривать с собеседником, нежно обольщает, подводит к дверям, провожает до дверей – а потом говорит: «Какая сволочь».
И, конечно, вот то, что Иван Грозный не дорезал – для Иосифа Виссарионовича было аксиомой. Не дорезал. То есть надо дорезать. И вся вот эта история последних семи с небольшим лет – это выстраивание новой страны. Он готовит новый процесс.
Венедиктов― Дорезать.
Радзинский― Да, дорезать до конца. И, главное, избавиться от этого балласта. Он старый человек и ему видятся старые лица.
Венедиктов― Молотов, Микоян.
Радзинский― Молотов, Микоян, Ворошилов. То есть мы возвращаемся к его речи во время этого заседания.
Венедиктов― Пленума, после съезда.
Радзинский― Когда он, Симонов пишет: «Сначала он сказал, что в самые сложные годы Ленин гремел. Гремел, он повторил несколько раз, в отличие от некоторых капитулянтов». И скоро капитулянты обрели имена, — пишет Симонов. Первым он набросился на Молотова. В чем он его обвинял, Симонов понять не может. Я думаю, что мало кто может. Потом он будет его называть просто английским шпионом. Следующим был Микоян. И его речь, как он пишет, стала еще более неуважительной. Он там сказал фразу, которую Симонов, видимо, не понял или забыл, а в другом воспоминании я ее читал. Все пишут о единстве нашей партии, а единства нету! Вот это было. И, видимо, следующим был Ворошилов, видимо. Короче, эти полтора часа и дальше он сообщает: «Мы изберем большой президиум, но это для иностранцев. Они не будут знать, что внутри этого президиума мы изберем малое бюро». То есть снова политбюро. В большом президиуме они все есть – и Микоян, и Молотов. А вот в малом… уже Молотова нет. Поэтому там уже свои и те, кто у него будут гости. Гости это Маленков, это Молотов, это Хрущев, это был Ганин. Все, кто приходят на дачу. Остальные не допущены.
Венедиктов― А Берия?
Радзинский― И он, простите, ну о чем тут говорить…
Венедиктов― Да, про все случаи. Пятерка.
Радзинский― Даже не могу простить себе, что главного, потому что он был главный, это был единственный человек, который мог претендовать на роль Фуше. Вы знаете, говорил с его женой один раз.
Венедиктов― Берия с Ниной.
Радзинский― Да. Потому что она была очень обижена всеми этими рассказами про Берию, который всех ловит на дороге.
Венедиктов― И любит.
Радзинский― Девочек сажает в машину и… У него действительно была эта девочка, но, думаю, что она в чем-то была права. Она сказала: «Скажите, когда?». Вот у него все шпионы, какие есть, их организовывает, и он занят атомной бомбой, которую не вовремя сделать он не смеет, не может, ему конец. Он занят кольцом вокруг Москвы, двойным, ракетным, которое будет создано. И он это сделает. У него гигантская империя, единственная империя не виданной, и никогда не будет видано впоследствии – это ГУЛАГ. Она и металлургия, и великие стройки коммунизма, социализма – это вся империя делает. И он все… Она говорит, что он в семь утра встает, а иногда не ложится. Почему не ложится? Потому что к Сталину они прибывают поздно вечером и уходят в пятом часу. Он спит буквально считанные часы. У меня в книге документальный рассказ Окуневской, которую посадили. Вот это – правда. Значит, ее ловят все время, там «гм», и, наконец, она садится, ее сажают в машину и привозят, по-моему, в особняк какой-то, где она… уже, по-моему, сдалась и была готова. И приходит Берия под утро. Садится. Она понимает, что сейчас вершится. Берия садится на постель – это сцена, конечно, ну где такое?.. Садится на эту постель и начинает с ней разговаривать. Как она живет, какие у нее есть сейчас претензии, жалобы? Все он это выясняет и уходит. Вот это – правда. Почему он это делал? Он отлично понимал, что у Иосифа Виссарионовича должен быть компромат на него, тогда он спокоен, понимаете. Он ему давал много. Вот он считался бабником. Когда-то он был… но уже не теперь. Он когда-то был, все это было. Он объезжал, когда он был в Грузии, он на лодке объезжал эти дома отдыха, всюду у него были эти любовницы – все это было. Но Иосиф Виссарионович посадил их в такую работу… ведь он же изменил порядок жизни всей страны. Все сидели ночью в ожидании звонка. Все же министерства, все работали. И вы знаете, что меня безумно удивляет? Эта невозможность его спросить, хотя тебя это абсолютно… Там у министра, по-моему, морского нашего, речного, я не знаю, чего, знаменитого полярника, героя Социалистического и советского союза. Пока он был на работе, забрали жену. Приехали и забрали. Он звонит в соответствующие органы – ему ничего не объясняют. Он видит Иосифа Виссарионовича, он не просто ее любит, эту красавицу. Она еще и ребенка ждет. Она для него – все, у него дети. Он потом пишет: «сколько раз рука находила револьвер в кармане, но покончить с собой я не могу, потому что у меня дочь». Он через день, через два, через три видит Иосифа Виссарионовича. И не смеет его спросить.
А.Венедиктов― Эдвард Радзинский. Продолжаем.
Э.Радзинский― Понимаете, речь Иосифа Виссарионовича во время осуждения, когда он докладывал Военному совету расширенному о предательстве Тухачевского, Гамарника, которые все сознались и так далее, он сказал фразу такого прежнего боевика, полную презрения, он сказал: «Я отказываю называть их — Гамарника, по-моему, который покончил с собой, — контрреволюционерами. Они шпионы. Если бы они были контрреволюционерами, — по-моему, он даже сказал, — Я бы на их месте — вот фраза была, — то я бы пришел и застрелил Иосифа Виссарионовича. Но они трусы. Они не контрреволюционеры, у них нет убеждений, они жалкие шпионы».
И ведь я занимался диктаторами.
А.Венедиктов― Ну да.
Э.Радзинский― Да. Вот Нерону донесли о заговоре, который называется «заговор декабристов» римских, то есть это люди, которые руководили легионами, сенаторы и так далее — цепочка. И вот взяли уже одного. Они понимают, что возьмут всех. Но он еще с ними общается. Они могут его убить. Они едут на свои виллы и ждут, когда приедет посланец, чтобы успеть перерезать себе вены и всё имущество завещать Нерону в вере, что он не тронет их потомство.
Вот Иосиф Виссарионович очень точно знал правила. Перед тем, как начать террор, он принял закон об уголовной ответственности мальчиков практически до 13 лет.
И потом принял еще один из основных законов, который стал рычагом для него, может быть, главным, которым он заставлял людей признать что угодно — это семьи врагов народа. Они подлежат тоже — это невозможно — уголовной ответственности. То есть человек, которого допрашивают, он знает, что допрашивают не его одного. Рядом с ним вся незримая семья. И если он бесстрашный, но бесстрашна ли его семья. Он как бы подписывает ей конец. Они верили… и так вели допросы, я это знаю, им все время никто не говорил точно, намекали, что «у вас особый случай, к вам все-таки по-особому Иосиф Виссарионович относится».
А его отношение для меня остается загадкой, вот по правде. Вот Каменев и Зиновьев. Он с ними был вместе, они вместе опрокинул Троцкого. Он с Каменевым был вместе в Туруханском крае. Они вместе ехали в Петербург с Каменевым, и Каменев даже ему одолжил шерстяные носки, потому что тот очень мерз. То есть это какие-то люди, которых связывает хотя бы совместная борьба. Вот он решает их уничтожить.
Это я понимаю. Он их уничтожает. Остаются семьи. Зиновьев сообщает ему, что у него сын с задатками марксиста и так далее. Каменев в последнем слове, выступая, причем он уже всё признает и обращается к своим детям — один пионер, один летчик — «Идите вслед за великим Сталиным» и так далее.
А.Венедиктов― Спасти.
Э.Радзинский― Да, это спасти. Что делает Иосиф Виссарионович. Расстреливает Каменева и Зиновьева. Расстреливает сына Зиновьева. Расстреливает сына летчика Каменева. Ждет, пока вырастет мальчик — расстреливает и его. Расстреливает жену Каменева. А первую жену сажают тоже. Вы, понимаете, вот что это?
Вот он взял Бухарина. У Бухарина первая жена, она инвалид, у нее корсет, она не ходит практически — передвигается. Бухарина взяли. Там остался отец и она. Анну забрали тоже практически, выслали. Ребенок…
А.Венедиктов― Вторую жену, молодую.
Э.Радзинский― Та пишет, что Бухарин не виновен и так далее. Ее арестовывают, ломают этот корсет, ее бросают в эту камеру, она ползает по полу. Ну, что, ее расстреливают. То есть ее, видимо, волочат на расстрел. Наш с вами упомянутый по фамилии Блохин…
А.Венедиктов― Василий Блохин.
Э.Радзинский― Который может всю партитуру человеческих страстей, ужасов рассказать. Вот он ходил… Они его лишили всех званий. За что? Они же не лишили главного его звания. Хотя отчасти эти похороны… Конечно, похороны тоже гениально сделать.
Понимаете, у меня не было возможности. Сейчас меня мучают люди из других стран, чтобы я продал этот роман. Мне жалко, я хотел его делать все-таки на той земле, где всё произошло. Но это поразительно. Этот Блохин, он мне не давал покоя и не дает до сих пор. Он видел конец Тухачевского, то есть человека бешеной личной храбрости. Вот он же превращен бог знает, во что. Их же одевали специально в отрепье.
И он видит, повторяю, этого Бухарина, как происходило… Вот как Симонов пишет через 25 лет после смерти Сталина: «Мне и сейчас не дает покоя это умирание». Он тогда, через 25 лет не знал, где умер Сталин. Понимаете, это оказалось сенсацией, когда Волкогонов опубликовал, что он умер не в Кремле и не в той квартире, — это последняя квартира, это уже не бухаринская, — где я сидел и занимался. Вся страна, по-прежнему… Кремль и так далее. И все эти легенды о том, как Хрущев, Берия и все набрасываются и его душат…
Формула «к стыду людей он умер сам» — формула поэта, она ходила абсолютно, потому что представить себе, что такой деспот просто умер, было трудно. Но когда я увидел эти документы… Я думаю, что это в следующий раз уже ими займемся, потому что я не могу просто про него рассказывать. Это кусок жизни и неправильной жизни. И я уверен, что я неправ. Дело в том, что я начал писать и вынужден был бросить пьесы. И я бросил их, когда надо было бы начинать, потому что ушла цензура, и мне уже не нужна была редакторша, которая всю жизнь была у меня и которая уверяла, что когда он все вычеркивает, то это лучше для пьесы. Мне уже не надо быть школьником и так далее.
И я в это время подумал — вы же историк, у вас же это образование, вы были учителем — я знал то же, что и вы. Я знал, что сегодня — перестройка, а завтра — застройка.
А.Венедиктов― Это верно.
Э.Радзинский― И что если я не успею попасть в эти открывшиеся архивы, я понимал, что это лавина документов, что она меня захлестнет целиком. И я знал этот ужас, и я сейчас это рассказываю… Мне показли ложбинки рядом со столом. Это было кресло историка великого нашего Соловьева, который год от года входил в архив, садился и делал вот это.
А.Венедиктов― Двигал кресло.
Э.Радзинский― Пододвигал кресло.
А.Венедиктов― И так протер.
Э.Радзинский― Протер. Потому что это монастырь. Понимаете, ведь я же кончил историко-архивный. Я знал, что это монастырь. И мой учитель Александр Александрович Зимин, великий историк, который так и не отказался от этого убеждения, что «Слово о полку Игореве» — что не может быть… У него была праидея, он говорил: «Чтобы создать слово, надо все предыдущее летописание, все эти повести XVII века и так далее… Не может оно быть начало, а то всё наоборот». Но это был лишь тысячу первый аргумент. До этого еще было тысячу исторических… И его умоляли. Нет.
Я же пьесу написал тогда «Обольститель Колобашкин», где есть сказание. Эфрос ее поставил, она шла очень долго — 3 представления — ее сняли. Главную роль играл Гафт. Занавес был в виде мхатовского занавеса, только вместо чайки была моль. И был архив со странными буквами ЁКЛМН. И там было сказание о деве Февронии, в котором усомнились. И вот это было очень смешно.
Я позвал Александра Александровича, который должен был смотреть на всю эту историю. Это последнее, что он смотрел, потому что он почти тогда же умрет. Но, повторяю, он был на одном из трех выступлений. Ее сняли моментально. Эфрос бедный тогда говорил: «Но там же ничего нет». Я говорил: «Там абсолютно ничего нет. Там сказание о деве Февронии». В чем дело? Прожить жить — как пройти улицу. Сначала смотришь налево, потом направо.
А.Венедиктов― Ничего нет.
Э.Радзинский― Ничего там нету. Мои там что-то… знают о цитате из генералиссимуса: «Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гетте. Вот вы смеетесь, а всего лет 5 назад вы бы над этим не смеялись. Тогда есть смысл подумать, над чем мы будем смеяться еще через 5 лет. Опять нельзя.
И это всё говорилось. Я помню, как они принимали, хохотали — и тут же сняли.
А.Венедиктов― Мы тогда в следующий раз с вами как раз с октября 52-го, после Пленума и что там происходило.
Э.Радзинский― Да, вот эту ночь. Потому что, чтобы было понятно, почему. Дело в том, что я в 89-м году выпустил записку Юровского в «Огоньке».
А.Венедиктов― О расстреле царской семьи.
Э.Радзинский― Да. Когда была в советском официальном журнале опубликована вся история. Это был ужас. Это тысячи писем. «Огонек» имел пять миллионов. Это был шок по правде. Да и у меня был шок, когда я эту записку читал. Потому что мысль, что кто-то мог ее написать, кроме Юровского… Мог, но это был даже супер Лев Толстой, потому что так спокойно, подробно.
А.Венедиктов― Спокойно. Слово «спокойно».
Э.Радзинский― Абсолютно. Комендант, он выше, он над, он история. Причем, видно, что он диктует ее. Это было понятно. И работая над этой запиской в архиве Музея революции, где я нашел невероятные вещи. Там фотографию мне показали. Я ее опубликовал, потом она тысячу раз была опубликована: Участники убийства великого князя Михаила Романова сидят, сфотографировавшись после убийства, вместе. Мясников, все… сидят, такая группа счастливых людей.
Работая… мне попались неизданные записки некого Рыбина «Железный солдат». Рыбин, вы знаете, он потом бы частым гостем у нас на телевидении. Это охранник Сталина.
А.Венедиктов― Как он себя называл, охранника Сталина.
Э.Радзинский― Он играл на гармошке. Сталин, как он объяснял, это очень любил. Но где-то уже с 30-х годов он его отправил вместо того, чтобы расстрелять — отправили на почетнейшую должность. Он стал зав правительственной ложей в Большом театре.
А.Венедиктов― Отдельный был зав.
Э.Радзинский― Да. И Сталин любил Большой театр. Последнее, что он видел, это «Лебединое озеро». Больше он никаких спектаклей не видел. Если мы с вами помним хорошо, что последний вздох его империи — по телевизору все время транслируют «Лебединое озеро». То есть там, наверху есть ирония истории бесспорно. То есть вы чувствуете, когда вы работаете, что кто-то стоит за вами и дико смеется, невероятно. Ему всё весело. Вам уже страшно, а ему все весело.
Симонов писал «И до сих пор мне неясно, как произошло это умирание», он не знал, — он собрал всех, кто был внутри дачи. Это были так называемые «прикрепленные» — они себя так называли. А официальное их название «сотрудники для поручений при Иосифе Виссарионовиче Сталине. Здесь сразу придется объяснять, что была охрана вдоль…
А.Венедиктов― По периметру.
Э.Радзинский: …4―метрового — потом куски 6 метров были — забора. Перед забором, за забором на территории. И была охрана внутри. Они назывались сотрудники для поручений.
А.Венедиктов― Давайте оставим для следующей истории.
Э.Радзинский― Для следующей истории я, читая, взял… были показания, он взял у Тукова, который находился внутри дачи, Старостина и Лозгачева. Была еще Матрена Бутусова, но она кастелянша, он у нее не брал показания. Я так начал читать — ничего интересного. Старостин говорит обычные слова: «Ну вот, он долго не выходил. К нему послали Лозгачева, нашего сотрудника. И он нашел его на полу». Вот всё, что он…
Но показания Тукова и Лозгачева, я даю вам слово — я стал мокрый просто. Там было написано то, что — просто как фальсификация, — что «в этот день у Иосифа Виссарионовича были гости, и Иосиф Виссарионович дал нам указание, которого мы не слышали за все годы работы: «Я иду спать, и вы тоже идите спать. Вы мне сегодня не понадобитесь», — это сказал Туков. И это же другими словами повторил Лозгачев, что «он перед этим за все годы, — сказал Лозгачев, — что я там работал у него, я такого приказания не слышал. Потом в беседе со мной он скажет: «Обычно всё иначе. Посмотрит тебе в глаза и спросит: «Спать хочешь?» Ну, какой после этого сон?»
Так вот Иосиф Виссарионович отдал небывалое указание им. И вы знаете, с этого момента я понял, что, может быть, мне удастся не только рассказать первую правду о гибели последнего царя, а, может быть, удастся рассказать первую правду о гибели первого революционного царя. И я решил встретиться с Лозгачевым.
А.Венедиктов― Хорошо. Спасибо!
============-=============
А.Венедиктов― Эдвард Радзинский в эфире «Эха Москвы». Добрый день, Эдуард Станиславович.
Э.Радзинский― Добрый день.
А.Венедиктов― А у вас что, не добрый, что ли?
Э.Радзинский― Нет, радость встречи снова.
А.Венедиктов― На такие мрачные темы. Грозный, Сталин, Сталин, Грозный…
Э.Радзинский― Не-не. Дело в том, что да-да, и Петр грозный, и Сталин грозный, но радость встречи не отменяет.
А.Венедиктов― Вы говорили о том, что, готовясь к этой передаче, вы придумали сюжет.
Э.Радзинский― Я не придумал сюжет. Я раньше, когда я просыпался утром, я как бы, будто бы по записной книжке, на самом деле, к сожалению, ее нет, проходил по возможным сюжетам. Сегодня проснувшись, я решил, что слово «поэт» меня очень возбудило. Дело в том, что восьмого термидора, числа во Франции, за день, до 9 термидора, когда весь террор рухнет и Робеспьер отправится туда же, повезли поэтов.
А.Венедиктов― Куда? На гильотину?
Э.Радзинский― Да. Это был Андре Шенье, или, как его называл Пушкин, Андрей Шенье, и его друг, другой поэт. И они по дороге…
А.Венедиктов― По дороге на гильотину?
Э.Радзинский― На гильотину. Они думают о чем? Что читать?
А.Венедиктов― Господи.
Э.Радзинский― Они будут вслух перед этим концом. И они придумывают читать «Андромаху» Расина. И вот в этом упоительном звучании французской речи их доставляют до эшафота, и тот, поднимая, говорит «а все-таки в ней что-то было».
А.Венедиктов― В голове.
Э.Радзинский― Да. После этого я думаю, что следующий сюжет, бесспорно, это Гумилев, которого допрашивают русский Андре Шенье, как он так и назывался, и мои мучения, потому что я помнил стихотворение, которое читал. Я оставил за дверью отцу Алеша. Я все время его хотел найти, это стихотворение. «Замученный мир малярией горел, Прибалтики снежной покров оттаивал кровью, когда на расстрел пошел террорист Гумилев»… Дальше я не помнил, но помнил концовку. «Быть может, новый Пушкин в новом сне споет нам о втором Шенье – о Николае Гумилеве». То есть сюжет продолжается. И дальше он совсем удивителен. Ведь что перепутал Гумилев? Он перепутал человека, который его допрашивал. Он все время, как поэт, имел образ. Пушкина допрашивает Николай I, и он его спрашивает: «Вы бы были на Сенатской площади?». «Да!» — с гордостью говорит Пушкин. «Я был бы!». И этого достаточно. И тот будет в расчет государям, и тот на вопрос этого несчастного следователя, участвовал ли он в этом таганском деле, с гордостью говорит, что участвовал. Только он не понимает, кому он говорит. Перед ним сидит человек, для которого он – классовый враг. Это совершенно… и его заканчивает. Но сюжет не заканчивается. Потому что дальше я бы закончил – два Мандельштама. Это Осип Мандельштам и иммигрант, тоже поэт, Николай, по-моему, Мандельштам, живущий в Париже. И конец их мы помним. Ту торжественную гильотину, почти фантастическую гильотину, в звуках поэзии. И вот здесь Освенцим, куда доставляют этого несчастного Николая Мандельштама, поэта, и наш, не Освенцим.
А.Венедиктов― Не Освенцим.
Э.Радзинский― Где умирает этот несчастный, причем описание невероятное, ужасное, как из носа что-то льется, он не может, его нету уже, потому что пеллагра – то есть истощение предельное, которое бывает у собак, которые подыхают от голода на этих теплых решетках. Разве не террор? Причем я же не говорю, что также умрет человек, который хотел накормить Россию Вавилов? И вот этот сюжет, это поэтический сюжет.
А.Венедиктов― А как же зарифмовать резолюцию товарища Сталина, кто дал им право арестовывать Мандельштама? Безобразие.
Э.Радзинский― Она рифмуется абсолютно, потому что страна, где ничего не делалось – сдох уже к тому времени, не дышит, человек спрашивает со всей его искренностью, потому что Гронский, который потрясающе точно… это один глава, партийный глава нашей культуры, подготавливающий первый съезд писателей и придумавший, видимо, социалистический реализм как метод. Он обожал Иосифа Виссарионовича. И он рассказывает. Он был великий актер, говорит он. Великий.
А.Венедиктов― Удивительно.
Э.Радзинский― Он общается с человеком со всей искренностью. Он к нему добр, он пленителен, он все, потом доводит его до двери, провожая, открывает дверь, и говорит, закрыв: «Какая сволочь». Как актер ему нужен зритель – это Гронский. Он не понимает.
А.Венедиктов― Ему нужен был Фейхтвангер. Он же Фейхтвангера обаял!
Э.Радзинский― А Ромен Роллан? Которому он говорил, что готов просто служить. Он все время его успокаивал. Но там была, промелькнула одна фраза, которая для меня была драгоценной абсолютно. Вы понимаете, если начинать биографию Иосифа Виссарионовича, ну откуда мы начнем? Конечно, Туруханск. Для меня. Потому что всю предыдущую биографию…
А.Венедиктов― Мы не знаем на самом деле.
Э.Радзинский― Мы не просто не знаем. Дело в том, что когда было его, готовилось 50-летие, его секретарь замечательный, которого он похоронит в кремлевской стене, Товстуха, он как бы был глава комиссии и ему поступали документы все время. Он просил документы прежде всего о том таинственном прошлом Иосифа Виссарионовича. Они же не вернулись.
А.Венедиктов― Это 29-ый год.
Э.Радзинский― Да. Все исчезли. Исчезли… в объятиях Товстухи. Так вот, если начинать по правде говорить об Иосифе Виссарионовиче, я бы начал ее, конечно, в Туруханске. Человек, который лежит. Я 10 раз это пытался рассказывать. Он лицом к стенке и он перестал даже за собой мыть посуду. Его ставят на пол, и с диким шумом из-под кровати выбегает собака Тишка, про которую он потом будет рассказывать и вылизывает эту тарелку. Ему 38 лет. И он подводит итоги, он не может их не подводить. Значит, вождь партии сообщил, что при нашей жизни нам революцию не увидеть. Буквально перед революцией, как и положено проницательному вождю. Одновременно он немножко забыл его фамилию, этого чудесного грузина.
А.Венедиктов― Как его там?
Э.Радзинский― Жи? Джи? Как зовут фамилию Кобы? Дзи? Джи? Почему ему нужна фамилия та? Коба просит сапоги. Сапогами называются фальшивые паспорта, на которые он, как бы надев на себя, улетит из этого чертового Туруханска. И у него профессии никакой, жена умерла, где сын – не знает, и, к тому же, у него такое ощущение, что Малиновский, который непонятно кто – наш или двойной агент Ленина, потому что Ленин пользовался провокаторами и объяснял это Анжелике Балабановой к ее ужасу. Поэтому, может, ему кажется – я уверен, — что им пожертвовали. И он лежит – конец света. Проходит 8 каких-то жалких месяцев, и этот конченый человек сидит в Кремле и он член правительства великой империи, которая ими захвачена. Вы понимаете, что в этой должно быть голове? А его биография – да как… его биография. По одним данным, 7, по другим – 8 арестов, 6 раз убегал. То есть каторга, ссылка, тюрьма. Тюрьма – каторга – ссылка – и так далее. Весь запас этого человека, с которым он выходит в это правление, это насилие, чудовищное насилие. И вы знаете, я думал, что он это забыл, сразу отринул во время разговора с Роменом Ролланом. Это мне безумно понравилось. Ромен Роллан начал говорить, он же приехал для этого, о том, что надо выпустить французского писателя, а на самом деле – Кибальчича, — Виктора Сержа, который находился как троцкист, сосланный в Оренбург, в очень дурных условиях. И тут вдруг Иосиф Виссарионович: «Какие дурные его!.. Вот я жил в Туруханске, там…». Он не сказал, но если бы знал, сказал нашу формулу. 12 месяцев зима, остальное – лето. Я жил там – и ничего! И вот здесь я понимаю, что когда он арестовывал и Зиновьева, и Каменева, он же вспоминал, как он там жил в этом, и все они жили в этих Парижах, в Ротонде, занимались этими спорами про Маркса и Энгельса, а он жил там – он, который был явно боевик, который добывал в свое время деньги, которого называли «левая нога Ленина» за любовь к Ильичу. И поэтому когда я пытался писать его биографию, я знал, что в Февральскую революцию выходит совсем другой человек. Притом дальше, вот здесь мы тоже должны остановиться, обязательно. Вы понимаете, он идеально, вы правы, чувствовал собеседника, моментально. Он растворялся в нем с огромной радостью, как любой диктатор – как Наполеон и кто угодно. И в Ромене Роллане – неважно, он сразу становился свой. И когда ты это чувствуешь – такая радость. И он все время разыгрывает, он драматург и режиссер. Он разыгрывает.
А.Венедиктов― И актер.
Э.Радзинский― Прежде всего. Симонов, который его знал, он об этом говорил, что он был замечательный актер. Он его поражал. А еще бы не поражать! У меня есть две сценки, которые я готов рассказывать день и ночь. Это приезд Барбюса в Россию. Вы знаете, что Барбюса не хотели пускать, потому что у него были троцкистские дела, статьи и так далее. Он был приглашен на юбилей Горького. И Гронский сообщает Сталину, что Барбюса не будет. И Сталин говорит: «А кто позволил им транжирить бесценный капитал?». Барбюса привозят в Москву. Барбюса сажают в Большом театре. Сцена. На сцене – президиум. В первом ряду Иосиф Виссарионович. Доклады идут про великого Горького, про которого Иосиф Виссарионович замечательно сказал, когда он решил передать имя Горького Московскому художественному театру, то Гронский заметил, что это, в общем-то, театр Чехова. На что Иосиф Виссарионович, не сказав ему, что он дурак, сказал, что «Чехов умер, а Горький – его надо привязать канатами тщеславия». Он знал, что это то, что привязывает интеллигенцию крепче всего.
А.Венедиктов― Тщеславие.
Э.Радзинский― Канатами тщеславия. Канатами! И вот сидит Барбюс, который этого не знает. «Сейчас мы его привяжем». И к нему в темноте подходит Гронский и просит следовать за ним. Вы понимаете, что Барбюс, который знает, что люди здесь, троцкисты, исчезают напрочь… Я думаю, с большим трудом и ужасом поднялся и идет за этим Гронским или кем-то. Его ведут. Ведут куда-то, в какую-то тьму. Они проходят очень долго, долго, долго… И выталкивают. И он вдруг в свете Юпитеров, на сцене, и Иосиф Виссарионович поднимается и начинает хлопать. И весь зал.
А.Венедиктов― Ну конечно, а как же!
Э.Радзинский― Не понимающий, кто этот маленький, черненький, неизвестный человечек вскакивает. И он слышит, что такое наши продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию. Вот это и дальше действие продолжается, Иосиф Виссарионович берет Барбюса и сажает на свое место. А сам скромно отсаживается в последний ряд. И Барбюс напишет все лучшее о вашей судьбе. В руках этого человека с лицом рабочего, головой ученого, в одежде простого солдата. И формула гениальная. «Сталин – это Ленин сегодня». Это Барбюс. Барбюс – наш, мы его взяли!
А.Венедиктов― Канатом тщеславия.
Э.Радзинский― И Ромен Роллан тоже наш, мы его уговорим, что – к вашим услугам. Все время. А как он там, я уже забыл, кого, он во время революции. И понимаете, он же с самого начала хозяин, когда, я уже забыл, кому-то надо уехать, и он говорит, что надо к Дзержинскому, но не надо к Сталину.
А.Венедиктов― А, было тогда, я тоже такое помню. Что такое было.
Э.Радзинский― Как инструкцию Караулову 18-го года. Ленинское, у кабинета Ленина охранник. Он должен для охранников в любое время дня и ночи, без докладов, в кабинет могут войти двое. А есть уже как бы, ну… официальная линия вождей.
А.Венедиктов― Вертикаль.
Э.Радзинский― Троцкий за Ленином. Троцкий, Зиновьев, дальше идут Каменев и так далее. И наш как бы вроде в конце. Значит, два человека имеют право в 18-ом году входить в кабинет Ленина без доклада – Троцкий и Сталин. Вы понимаете… И это еще до всего, до всех секретариатов, до всего. Поэтому когда все эти глупости, что Ленин пост генерального секретаря технический – да забудьте! Пост генерального секретаря – это больной Ленин, который понимает, что НЭП и что они его сведут с ума дискуссиями просто. И он придумывает гениальную вещь. Он придумывает пост генсека. Для чего? А до этого, мы помним, есть это решение партии, что никакой оппозиции. Оппозиционная фракционная деятельность – исключение из партии моментальное. Все голосуют – и Троцкий, главный функционер, все. А теперь для этого нужно что? Большинство на съездах, чтобы решение не отменялось. Иосиф Виссарионович, пока все гуляют, очаровательное письмо Бухарина Зиновьеву из Кисловодска. Все пишут: «Огромная власть сосредоточилась в руках генерального секретаря. Не худо бы поделиться». Как он хохотал, наверное. Но он им ответил так, что… он ответил: «Пока вы там, как бы, отдыхаете, я здесь собака в жаркой Москве тружусь. Да я сейчас уеду и никаких разногласий у нас с тобой – работать надо!». А как учил нас Достоевский, в России работать кому ж охота? Поэтому они отдыхают.
А.Венедиктов― Они отдыхают.
Э.Радзинский― А он с Кагановичем, тоже фигура абсолютно неописанная, абсолютно, то есть вот действительно челюсти крепкие. Удивительно. И он целиком его. Вы знаете, там чудовищные мемуары, это изложение краткого курса, но там есть одна точная фраза, абсолютно. И одно идеально описанное действо. Значит, точная фраза – что каждый раз Иосиф Виссарионович удивлял нас неожиданностью решения. И второе – он рассказывает, что было. То есть были посланы ответственные инструктора по всем провинциальным ячейкам партии. И они перетряхнули партию. Они имели право доклада, что не годится этот, и, как делали часто, они сами становились…
А.Венедиктов― Отстранения.
Э.Радзинский― Да. И они сами часто становились, более того, органы НКВД и так далее – они не имели права отказать им в показе всех документов. То есть они еще контролировали.
А.Венедиктов― Люди, назначенные Сталиным.
Э.Радзинский― Все.
А.Венедиктов― Все.
Э.Радзинский― И следил Сталин, как… Вы знаете, он работящий, но в конце жизни. Он, видимо, очень любил показать, что делать, но вот это усидчивое… В нем есть… На самом деле, он импульсивный человек. И эта трубка, которую он придумал, сдерживающая, это гениальное же было.
А.Венедиктов― Как мячик в руке.
Э.Радзинский― И он ее долго раскуривает. Это полчаса. Курит-то быстро. Он раскуривает этот табак «Герцеговина Флора», он раскуривает эту трубку и появляется образ взвешенного политика. В то время, как те все кричат привычно, потому что, это же любая партия – это склока.
А.Венедиктов― А уж революционная партия.
Э.Радзинский― А это кафе. И орут одновременно. А этот – слушает. И вот эти стихи, которые я обожаю, Твардовского. «Глаза, склонившиеся к трубке знакомый людям всей земли, и эти занятые руки, что спичу с трубою свели. Они крепки и сухощавы, и строгой жилки бьется нить – в нелегкий век судьбу державы и мира им пришлось вершить».
А.Венедиктов― Эдвард Радзинский у нас в эфире, и мы продолжаем после новостей.
НОВОСТИ/РЕКЛАМА
А.Венедиктов― Эдвард Радзинский у нас в эфире и мы движемся дальше.
Э.Радзинский― И вы знаете, вот, продолжая эту тему его ощущения человека – очень интересно для меня. Вы знаете, есть то, что я вам сейчас рассказывал, в принципе…
А.Венедиктов― Ну Туруханск, мы поняли. Туруханск.
Э.Радзинский― Я говорил все это не раз. А вот это – абсолютно, это меня поразило. Вы знаете, это 13-ый год. Он проехал всю страну, хотя, как бы, скажем, оперативки для него должны были лежать во всех жандармских отделениях, он же все время убегал. Как правило, русскими документами, он с речью его и лицом, он все-таки сумел проехать, изумляя всех нас, в Вену. В Вене он остановился у человека по фамилии Трояновский. Это будущий наш дипломат знаменитый, посол в Соединенных Штатах, его сын будет бессменный посол. И его сын написал мемуары. И в мемуарах есть один замечательный кусок. Значит, я проверил, где они жили в Вене. Они жили в трех шагах от парка Шенбруннского дворца. Неплохой район, хотя очень далеко от центра. И Иосиф Виссарионович стал там тоже жить, потому что у него… И, как вы знаете, засел чудесный грузин, который засел за написание вот этого божественного труда – «Марксизм и национальные вопросы» или что-то. Ленину очень, вы знаете, нравилось, потому что он там просто излагал все ленинские мысли. Одновременно он написал, правда, Малиновскому письмо. «Дружище здесь занят какой-то ерундой», — написал Иосиф Виссарионович. Но Ленин знал, я уверяю вас, если была встреча, он бы понял, что он целиком во власти марксизма и национального вопроса. Но он занимался одной вещью. В благодарность. А он был тактичен. Он выводил девочку, будущую жену Куйбышева, нашего знаменитого революционера, который с ней будет обращаться чудовищно, по-хамски, но это потом, — он эту маленькую девочку выводил в парк. И кормил ее, видимо, конфетами, сладостями, ну чтобы она гуляла. И однажды, о чем пишет Трояновский, он предложил маме, он предложил ей: «А давайте оба позовем вашу дочку? К кому она пойдет?». И она пошла к Иосифу Виссарионовичу.
А.Венедиктов― Ай молодец, ай красавчик.
Э.Радзинский― Он красавец. Все его отношение. Причем, уверяю вас, такой же был у Победоносцева, такой же был и у Ленина. Они знают, что толпа крайне проста. И Иосиф Виссарионович сказал замечательную фразу, замечательную. Он сказал, что люди обкатываются легко, как камешки в океане, и политик должен это обязательно учитывать. И вот такой образ, понимаете. И поэтому для меня невероятно было всегда важно, когда он решил уничтожить сначала партию, а потом практически всю прежнюю жизнь. То есть создать монолит, как он называл, морально-политическое единство советского общества.
А.Венедиктов― А когда?
Э.Радзинский: 34―ый год, конечно. Ну… мы начнем этот год со съезда.
А.Венедиктов― Съезд победителей.
Э.Радзинский― Обычно был съезд «кто кого съест», а это нет. Это другой съезд. Это съезд славы, который он, ну, щедро назвал «съезд победителей», хотя имел право назвать «съезд победителя», потому что вся оппозиция… причем какие тонкости. Бухарин этому несчастному залу, который не очень понимал, говорил о каким-то парфянских стрелах отравленных, которые он, Бухарин, пускал. Иосиф Виссарионович избавил от них нашу родную партию. А каков Зиновьев, который же там бросил лозунг, который полетел в вечность. «Партия великого, партия Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина». Это там. А это великий стратег мирового рабочего движения, это десятилетие под именем Сталина – Каменев, профессор. Тот самый Каменев, который – а он это помнит – в Ваченске, в Туруханске, по-моему…
А.Венедиктов― В ссылке в той же сибирской.
Э.Радзинский― Он, когда Иосиф Виссарионович тоже пытался вступить в философскую дискуссию, тут же его обрывал, потому что его мнение ему было неинтересно. Эти люди зла не забывают. Любого. То есть, у мальчика, у которого был шестой, у которого срослись пальцы и который не мог купаться, это Иосиф Виссарионович.
А.Венедиктов― Публично купаться, чтобы не видели.
Э.Радзинский― Да. И которого за это папа называл дьявольским копытом. Вы понимаете, у него эта жажда совершенства, комплекс, победа над комплексом неполноценности, он же еще маленький, у него еще, к ужасу, будет эта рука. И я видел, и вы знаете, эту фотографию первую, которую в детстве. Он на последнем ряду, но он вытягивает голову, он старается быть выше всех. Поэтому все охранники потом, все будут маленькие. И тот, к которому мы перейдем – Лозгачев – тоже маленький. Не терпел.
А.Венедиктов― Это как раз понятно.
Э.Радзинский― И вот этот человек, конечно… безумно все это интересно, интересна психология. Вы понимаете, его психология. И вот, 34-ый год, съезд. Он все это слушает и потом, как мы с вами знаем, к нему приходят ведущие съезд и начинаются выборы в руководящие органы. Иосиф Виссарионович демонстративно кладет свой бюллетень не глядя. Причем выборы эти без выборов, там же количество кандидатов равно количеству членов.
А.Венедиктов― Членов ЦК.
Э.Радзинский― Но если кто получит больше 50, что невозможно, то избран не будет. И к нему приходят и сообщают ему, что все, кто его славили, они, конечно, молодцы, но из них то ли 160, то ли 300, по разным делам, голосуют против. Более того, неважно сколько. Больше всех против голосовали за Сталина, потом Молотова, потом Кагановича. То есть все его, съезд демонстративно отверг. Ну что он должен был подумать?
А.Венедиктов― Лицемеры.
Э.Радзинский― Нет. Он подумал… лицемеры – это понятно.
А.Венедиктов― Это обычно.
Э.Радзинский― Да. В общем, двурушники. У него был другой термин – вечный. Что это никогда не будет, они его никогда не признают Лениным. Никогда. Вождем они его не признают. Но это второе. А первое… А может, и второе. А второе – самое главное – он подумал: «какие ничтожные, жалкие люди». Во времена Нерона находился тот, кто и в Сенате вставал, зная, что убьют, и говорил, то есть выступал, и никакое это сталь, железо, это, как писал Маяковский, взваливал съезда советов… Нет, ни стали, ни железа – ничего! Есть партийные люди, которые обременены любовницами, квартирами, все склоками, все, о чем ему доносит Иегода. Потому что Иосиф Виссарионович все время читает эти донесения. То есть уничтожить их ничего не стоит.
А.Венедиктов― Людишки.
Э.Радзинский: В 27―ом году, когда он их выслал, как быстро все исправились, написали письма, отреклись и приехали. И в этот момент он понял, что просто надо выбирать, а ведь это же он не придумал публичный процесс. Мы же с вами знаем, что все эти публичные, «шахтинское дело» и так далее бесконечны с тех пор, как он вошел во власть 27-го года. Они шли, и тюрьма стала называться «дом отдыха инженера и техника» в народе. Причем здесь принята же Конституция будет. Вот сейчас, сразу, здесь построена основа социализма, как объявят этот съезд. Причем этот социализм… вот я одного не понимаю. Неужели, это же удивительный социализм. Поразительный. Где крестьянство прикреплено к земле. Может я чего-то тоже пропускаю? Рабочий класс, который гегемон, он почему-то «попробуй уйди с производства, у тебя трудовая книжка». Или «попробуй сделай – у тебя будет в Конституции право собраний, митингов и шествий, но попробуй». Наш народ – он же жил, откликаясь анекдотами. Любимый анекдот этого времени: приходит тетя к юристу, адвокату, и говорит, «я хочу знать, имею ли я пр-». «Имеете». Имеете право. Ага. «Значит, я могу?..» «Не можете», — говорит. Вот весь эпиграф к этому. Народ счел, он все понимал и со всем соглашался. Поэтому и дальше. Но дальше – открытие. Вы знаете, настоящее. Здесь я просто… он открыл великую вещь, что, оказывается, рабский труд – очень производителен.
А.Венедиктов― Ну это открытие.
Э.Радзинский― Конечно, открытие. И все эти мысли о том, что античное общество погибло, потому что рабский труд был – как производителен! Как они работали! Это же не придумать. Стройте коммунизм, который воздвигается при помощи рабского труда. То есть коммунизм – когда это николаевская казарма, как ее объявят небезызвестные нам революционеры, это вот прямо. И вот этот строй нравится. Ну, нравится, наверное. Это прекрасно.
А.Венедиктов― Энтузиазм. Время – вперед.
Э.Радзинский― Вы знаете, да. Время – вперед. И вот под этими гремящими лозунгами, ведь он построил моментально индустриализацию. Ну почти моментально, действительно, в стране, которой там дальше идут. Он построил. Да. Но за кратчайший срок. Но ему надо было все время доказывать, что срок должен быть кратчайший. Для этого он придумывал, ведь в чем процесс-то? Все процессы должны были доказать, что империалисты замышляют против нас войну. И Иосиф Виссарионович сам пишет показания Кондратьеву и Чуянову, которые почему-то… Кондратьев, он, как он пишет, уходит от главной мысли, которая очень важна. Когда Франция замышляет на нас напасть. И обязательно, что если не нападет тогда-то, то, наверное, нападает тогда. И Кондратьева просят провести сквозь строй. Это, наверное, было интересное мероприятие для Кондратьева, потому что он сразу заговорил. И все, согласился. Поэтому процессы уже были. Как их сделать он знал. Так что, он предложил партии большевиков, которая проводила вместе с ним те процессы, говоря словами нашего классика, «угодно на себе примерить». И вот в 34-ом году он увидел одну интереснейшую вещь летом. Летом состоялось убийство Гитлером всех, кто привел его к власти. Всю верхушку штурмовиков, да бог с верхушкой, там же был Рем, открывший Гитлера, который был больше, чем… я не знаю.
А.Венедиктов― Больше, чем Каганович.
Э.Радзинский― Больше, чем Каганович, будем считать, здесь не было – Ильич уже умер, тот, кто привел Иосифа Виссарионовича, уже не было. Троцкий не приводил его. Поэтому убили Рема, убили всех, и что Германия? Один народ, одна партия, один фюрер. Моментально лозунг. И Гитлер стал всемогущим вождем. Это произошло.
А.Венедиктов― Сталин за этим следил.
Э.Радзинский― Да. Он не мог не следить. Он только за этим и следил, это же был, впервые появился по правде враг. Ведь до этого же он знал, что эта Веймарская республика, эти, как англичане, и Гитлер называл презрительно «люди с зонтиками», что они нападут. Он все знал. Он правильно, он создавал – эта атмосфера давала возможность опасности, дает возможность быть вождем. Все время. То есть народу не надо объяснять, почему нет того-то, того-то, того-то. Мы — осажденная крепость. Мы – единственная осажденная крепость социализма. Мы в этом море отвратительного капитализма, где потом, вот уже когда мы дойдем до нашего времени, как он сказал эту замечательную фразу, что «самый последний советский человек свободный от цепей капитализма на голову выше самого высокопоставленного буржуазного тщедуша».
А.Венедиктов― А, вот? Совсем хорошо стало.
Э.Радзинский― Который обремененный этими цепями, несчастный. Несчастный все время волочет эти цепи. И это так. И это действительно… зачем надо было раньше, то теперь стало понятно, зачем теперь. Потому что Гитлер объявляет и, по правде, все в это верят, и Бухарин, который будет сидеть, будет писать, почему… Там поразительно. Он же Сталину объясняет, почему он, Сталин, должен был его посадить. Он пишет 43 письма любви к Сталину. И потрясающе, я их хочу как-нибудь прочесть вслух, где-нибудь, стихи, которые он пишет там. То есть… ясно, что условия у него не самые плохие, если человек пишет стихи. Но почему то, что он с ним сделал, это поразительно. Поразительно. И то, что Бухарин, который собирался и которому это прелестная – это надо же – несчастная Анна говорила: «Только не лги на себя». И он заставлял ее день и ночь читать это письмо к съезду. Попав туда, пишет ей: «Не беспокойся, меня обхаживают», — пишет он, — и как они с ним замечательно, с почтением обращаются. Он справедливо пишет, потому что он ожидал того, о чем он слышал. Что снимут пояс, начнут придерживать штаны, начнут говорить «кто ты такой?».
А.Венедиктов― Издеваться, унижать.
Э.Радзинский― Унижать – не просто унижать, а раздавить. Первое – давили сразу. Надо раздавить человека сразу. Никто не давил. Никто там, когда она пришла, сидит этот Коган, по-моему, следователь, и говорит ей – он ее принял – «Вот чай с сахаром. Николай Иванович – такая сладкоежка, мы здесь беседуем с ним». И она злобно говорит: «Так может быть, он попал в санаторий?».
А.Венедиктов― Анна Юрьевна понимала.
Э.Радзинский― Да. А тот говорит ей: «Если вы будете так продолжать – больше не встретимся». Но они больше не встретились по другой причине. Потому что ей позвонили, что товарищ Коган уехал в длительную командировку. Когана отправили туда же. Так вот. В 34-ом году, уже в конце, происходит вот… вы знаете, я все время думал. Ну, вот все эти споры, сколько он расстрелял, там же, как бы, цифры предлагают те организации, которые все это производили. Ну не в этом дело. А вот почувствовать по правде, что это такое? И вот в 34-ом году 21 декабря, как мы с вами знаем, был день рождения Сталина. Другое дело, что это был вымышленный день рождения.
А.Венедиктов― Бывает.
Э.Радзинский― Это очень интересно и понятно, почему. Он на год и 3 дня, по-моему, изменил свой день рождения, и все прогрессивное человечество вместе с нашей страной справляло бог знает чей день рождения. Но это неважно. Вот 21 декабря они собираются. 1 декабря, как мы помним, убит Киров. Мысль, которую он действительно сказал, потому что там, эту фразу, когда Киров сообщил, что его обольщают и просят стать генсеком, он сказал: «Прогнал всех», — сказал Иосифу Виссарионовичу. И тот действительно сказал: «Этого я тебе никогда не забуду».
А.Венедиктов― И не забыл.
Э.Радзинский― Вы знаете, он не то что… для него человек… Если серьезная проблема, то человека не должно быть. Это правда. И когда там ужасается дочь, слыша по телефону, как он распоряжается по поводу убийства Михоэлса, она просто не понимает, что это человек из революции. Что для него жизнь – это не жизнь. Кулика — будущего маршала, которого он хочет сделать маршалом, но у него не та жена. Ну вот не та. Она плохо себя ведет, у нее любовник. Ну не может быть у маршала такой жены. А Кулика знает царицу.
А.Венедиктов― Да, с гражданки, с 19-го года.
Э.Радзинский― Да. Он занимался, этот фейерверкер, занимался уже артиллерией. Это всегда, в революцию, тот, кто был ничем, становится всем. Но что делать? Иосиф Виссарионович моментально распорядился. И бедный Кулик, который не понимает, куда исчезла его жена, все время надоедает этим органам. Говорят: «Ищут». Но не нашли. Кулик потом женится на подруге своей дочери. Ну, потом его расстреляют, вы знаете.
А.Венедиктов― Уже после Второй мировой.
Э.Радзинский― Да. Его расстреляют в 50-ом году, по-моему, когда будет расстрелян Гордов, Рыбальченко, генерал-лейтенант. Там уже… наше время.
А.Венедиктов― Еще дойдет до этого.
Э.Радзинский― Еще да. Впереди – следующий эфир.
А.Венедиктов― И о том, что случилось 21 декабря 34 года, мы поговорим в следующий раз.
=================-===============
А.Венедиктов― Эдвард Радзинский. Эдвард Станиславович, добрый день. Мы с вами остались на некоем таинственном дневнике, который вела даже не знаю, кто она ему была. Кем она ему приходилось, Сванидзе-то?
Э.Радзинский― Она приходилась женой брата его первой жены.
А.Венедиктов― Вот так вот. Брата первой жены Сталина. И писала дневник.
Э.Радзинский― Да.
А.Венедиктов― Вела дневник.
Э.Радзинский― Она вела дневник. Дневник попал к Иосифу Виссарионовичу.
А.Венедиктов― Попал?
Э.Радзинский― Да.
А.Венедиктов― Вы как-то выбираете слова. Попал.
Э.Радзинский: Должна была исчезнуть не только та партия, которая сделала историю России историей большевиков, а погибнуть старая жизнь
Э.Радзинский― Чуть позже, и видимо, был сильно отредактирован, потому что целые куски там зачеркнуты и не хватает страниц.
А.Венедиктов― Вы его видели?
Э.Радзинский― Да. Были вырваны. День рождения Иосифа Виссарионовича 21 декабря 34-го года – мы к этому вернемся сейчас, потому что, понимаете, для того, чтобы понять, что случилось. Потому что все эти споры, миллионов репрессировал, 15 миллионов, как была эта цифра. Битва между цифрами, ссылки на статистику, которая предоставлена, в общем, теми, кто и производил все это. Это второе. А первое – кто. Кто был репрессирован. И вот для того, чтобы почувствовать этот масштаб, мы подойдем сейчас к 21 декабря 34-го года. Это день рождения Сталина. И она, Мария Сванидзе, пишет: «Присутствовали все близкие». Все близкие. И дальше она их начинает перечислять, причем с количеством. Имена: Молотов, условно один или два.
А.Венедиктов― А, вот так, да?
Э.Радзинский― Да. Она пишет: «Чубарь – двое». Чубарь – это сейчас, только что, убили Кирова 1 числа, и как бы читается, что он будет его преемником возможным. И руководство: Калинин – один, Енукидзе – ближайший друг Иосифа Виссарионовича, один; Ворошилов – один; Лакоба – это глава республики.
А.Венедиктов― Абхазии.
Э.Радзинский― Он не просто глава солнечной республики, он и построил дачу на Рице, любимое место Иосифа Виссарионовича. Причем там присутствует, по-моему, трое – то есть жена Лакобы, красавица-крестьянка, и сын малолетний. И Сванидзе. Они трое, то есть Алеша, Мария и их сын. Я думаю, что… да. И, конечно, Берия.
А.Венедиктов― В 34?
Э.Радзинский― Да. Самые близкие. Дальше идут родственники, потому что все самые близкие. Это Реденс.
А.Венедиктов― Станислав Францевич.
Э.Радзинский― Муж Анны Аллилуевой, родной сестры, только что, в общем, два года назад, умершей жены Сталина. И родной брат жены Сталина, Павлуша. И его жена Женя, которая действительно необычайно была красивой, и ее называют «Роза новгородских полей», она из Новгорода. Там какая-то личная история была, видимо, между Сталиным и ею, потому что Мария Сванидзе опрометчиво написала «я их наблюдала». Но мы это пропустим.
А.Венедиктов― Ох ты.
Э.Радзинский― Пожалуй, все, наверное. Пожалуй, все. Дело происходит на даче, ближней даче. Как она пишет, собираются они в 9 часов. И Сталин заводит патефон, приглашает танцевать всех, требует, чтобы кружились, потом она пишет: «Они пели эти грустные грузинские песни, «Я могилу милой искал», после чего Иосиф Виссарионович сказал вдруг: «А теперь помянем Надю». И как она пишет, это было до слез. И она пишет, что раньше он был недоступный, мраморный герой. А насколько после этой смерти стал человечнее, добрее. Он стал, действительно, человечнее и добрее. Но мы с вами знаем, что 1 числа был убит Киров. И уже через 17 лет после начала революции и победы октября, два вождя октября уже сидят в тюрьме. Они арестованы. Более того, когда не понимающий Ягода начал арестовывать, это назывался «кировский поток» этих дворян, священников и так далее…
А.Венедиктов― Эсеров.
Э.Радзинский― Услышал жестко «ищите среди зиновьевцев». И уже, видимо, нашли – они сидят. То есть у Иосифа Виссарионовича в это время уже все сформировалось, потому что именно до этого времени тайная полиция, которая была приближена к партии, перешла в Наркомат. Она уже отделена от партии. Он уже выслушал, я думаю, рекомендации. Рекомендацию возьмем одну шутливую, но очень интересную. Ее записал Троцкий. Это слова Владимира Ильича, шутка Владимира Ильича, и какая! И сколько правды в этой шутке. «Революционеров старше 50 лет надо отправлять к праотцам, — шутливо говорит Владимир Ильич, — «потому что они становятся тормозом для идеи, которой посвятили всю жизнь». И вторую рекомендацию ему дал, конечно, Гитлер. Мы уже о ней говорили. Когда летом того же 34 года прямо за полгода до убийства Кирова была истреблена вся верхушка штурмовиков, все, та партия, которая привела Гитлера к власти.
А.Венедиктов― Силой истреблена.
Э.Радзинский― И что случилось? Мы уже это говорили. Случился лозунг, который победил в Германии. «Один народ, одна партия, один фюрер». В скобках «вождь». Слово, которое у нас не переводилось. Он назывался фюрер.
А.Венедиктов― Потому что у нас остальные назывались вождями.
Э.Радзинский― Потому что у нас были только вожди. Все это…
А.Венедиктов― Подождите, давайте мы проскочим. Вот как литератор. Слово «вождь», ведь оно было в этот период официальным. «Наши вожди», сначала Ленин-Троцкий-Сталин. «Наш вождь» — это не было чем-то пафосным. Это было чем-то обыденным, банальным?
Э.Радзинский― Это было определением, рожденным революцией. Они были вожди революции. Политбюро первое, 20-ых годов, Политбюро настоящее, это по рангу – Ленин, Троцкий, Каменев, Зиновьев, Сталин. Кандидат Бухарин. Сейчас останется один.
А.Венедиктов― То есть вожди во множественном числе – плохо.
Э.Радзинский― Значит, теперь. Что же случится дальше? Мы еще забыли одного необычайно близкого Иосифу Виссарионовичу. Орджоникидзе. Он там тоже – один. Значит, Орджоникидзе покончит с собой, и все его братья будут расстреляны, жены репрессированы тоже. Енукидзе будет расстрелян. Дальше начнем: Молотов – жена, она будет арестована, посажена. Калинин – жена посажена. Теперь перейдем к ближайшим родственникам. Это Анна с мужем Реденсом, Реденс, который был ближайший к Дзержинскому, выполнял все – репрессировал, доказывал всю революционную ярость и так далее, будет расстрелян. Анна будет посажена. Павлуша неожиданно умрет, Павлуша Аллилуев, родной брат, вернувшись с курорта в расцвете сил, умрет. Правда, перед этим будет надоедать просьбами против репрессий военных, потому что он закупал оружие в Германии и знал людей, которых расстреливают. Жена Женя будет арестована, дочь Жени будет арестована. Останутся теперь у нас авторы дневника. Мы не должны забывать.
А.Венедиктов― Мария Сванидзе.
Э.Радзинский― Мария Сванидзе, которая так знала, что он был добр, стал добрее и человечнее, будет расстреляна. Муж ее Алеша Сванидзе будет расстрелян. Я думаю, что вы уже утомились от этих…
А.Венедиктов― От такого нельзя устать.
Э.Радзинский― Их сын, Джон Рид, будет посажен.
А.Венедиктов― Это имя, да? Джоник.
Э.Радзинский― Имя Джоник, чтобы было легче, будет посажен. Но мы забыли еще одного. Это создателя уюта. Это архитектор дачи Мержанов. Он будет сидеть 17 лет, жена будет посажена и сын будет посажен. И вот здесь возникнут некоторые недоразумения, потому что те, кто будет заниматься биографией Мержанова, наверное, попытаются, если они будут, правда, жить на Западе, нас опровергнуть. Дело в том, что множество свершений Мержанова будет почему-то в тот период, когда он будет сидеть. Он построит дачу в Сочи, принадлежащую нашей замечательной структуре НГБ, он построит, по-моему, ряд строительств в Красноярске и так далее. Дело в том, что они не знают, что его будут из заключения, где он будет сидеть, возить на эти стройки. Более того, он будет в шарашке, где у него будет очень хорошая компания, в частности, Солженицын. Так что, никакого нет. И только двое – Ворошилов, который будет сейчас под ударом перед смертью Сталина, и Берия, уже, как мы знаем, велось «мингрельское дело», и он назывался «большой мингрел». Это будет кандидат и был, и он это знает, туда. Вот такая удивительная история. День рождения просто опустел. Никого не осталось. А наш, который все это знал, какой был все-таки блестящий актер. Что это было – его прощание с ними? И он знал, потому что он справедливо сказал: «Я привык делать свою работу до конца». И он знал, что это работу он сделает. А смысл этой работы был? Когда будут искать какие-то несопоставимые вещи. Мы сейчас будем о них, чуть-чуть скажем. Понимаете, должна была исчезнуть не только та партия, которая победила и которая сделала историю России историей большевиков, а должна была погибнуть та старая жизнь, в которой вся старая жизнь. И поэтому сейчас начнется. И начнется безумие, то есть царские генералы, которые согласились сотрудничать с большевиками, будут расстреляны. Множество генералов, которые не согласились, будут расстреляны. Но условно говоря, все, вся русская революция – эсеры, правые, левые, большевики старые, вся партия, вся практически, и добровольцы, остатки, тоже соберут. И будут эти фантастические камеры, где будут встречаться, безусловно, Мария Спиридонова, Жанна Д’Арк русской революции, будет сидеть и будет в сороковых годах, во время отступления, расстреляна. Муж ее будет сидеть. И в камере, возможно, с интересным человеком, который все время боролся с этой самой Спиридоновой – Джунковский, который тоже будет расстрелян.
А.Венедиктов― Я напомню, это глава охранного отделения в царской России.
Э.Радзинский― Глава шеф-корпуса жандармов и губернатор Москвы, который очень много сделал, которого вначале привлекут для создания будущей паспортной системы. Он должен будет многое объяснять. Объяснит – расстреляют. И камеры будут представлять какой-то некий Ноев ковчег революции, где люди, как писал один, будут сходить с ума. Какой-то несчастный эсер смотрел на все это и дико хохотал, пока его не отвели туда, где они все найдут дорогу. И это удивительное… эти места назвать Коммунаркой, главный расстрельный полигон, где, в общем, будут расстреляны вожди – Бухарин, Каменев и Зиновьев, видимо. Там расстреливали вождей и наркомов. Коммунарка. Назвать октябрьским зал в колонном Доме Союзов, где будут происходить процессы над вождями октября. Какая великая улыбка за всем этим. Это мастер все-таки, все-таки он был мастер, и он был настоящий режиссер.
А.Венедиктов― Почему окажется, что он зачеркнул свою старую жизнь?
Э.Радзинский― Знаете, я должен до конца… Ведь я сказал, что был актер. Но мы же первый раз, я это прочитал, у обожавшего его, это был глава партийной культуры Гронский. Как мы уже говорили, основоположник, видимо, слов «социалистический реализм». 15 лет – сядет Гронский. Никто не забыт, ничто не забыто. Вся, повторяю, эта жизнь будет расстреляна. Поэтому, понимаете, когда мы говорим, мы должны представлять эту жизнь. И семьи. Вы знаете, самое чудовищное, что я читал – это мне прислали какую-то маленькую книжку человека, который сидел. И я ее, честно, использовал в своей книге, это уже был роман «Апокалипсис от Кобы». Это баржа, на которую сажают заключенных, чтобы их везти. Сажают женский лагерь и мужской лагерь. И здесь те, кто пишут, что сидело много уголовников, правы. Это почти уголовники, весь. И там переборка между женским лагерем, посаженным, и уголовниками. Причем, что такое «везут в женский лагерь»? Это дочери, жены вот этой элиты, которая сейчас отправилась на коммунарку в Бутово, а частью – в Донской монастырь. В эту бездонную могилу прахов №1. И они слышат эти голоса женские, и начинают крушить перегородку. И они, как пишет, он сидел с ними, этот, раздевшись догола с этими исполосованными, мускулистыми телами, с этими всеми картинками, на них нарисованных, они крушат эту переборку и бросаются на этих несчастных дам, туда. Там же полно совсем молоденьких девушек. И он пишет, как все это месиво барахтающихся тел. А потом они подплывают, и те не хотят выходить. И те умело, охрана брандспойтами, и те, хохоча, выходят, а за ними эти плачущие женщины. И он пишет, что несколько трупов всплыло, потому что играли в карты и проигрывали. Поэтому… не знаю. Я очень жалею, что я этим занялся, потому что заниматься Французской революцией куда приятнее было.
А.Венедиктов― Приятней.
Э.Радзинский― Да. Там кровь, но там люди не убивают человеческое достоинство, понимаете. Там Дантон, едучи на эту плаху, кричит «До конца!». И на этой плахе он, человек, он Дантон, его не сломили. Здесь же, Демулен… это бесконечно. Вся эта битва, госпожа Ролан, которая на плахе просит перо, чтобы описать состояние. Красавица, глава была… тогда были милейшие сборища, где дамы, для того, чтобы быть модными, должны были быть умными. И она, которая была, ну, наверное, святая дева жарондистов, то есть революционной партии, к которой и пришла вначале к власти в революцию, и вот она с фразой «Свобода, они даже тебя запятнали кровью», потому что там стояла статуя свободы, просит перо. Не дают. Но она остается. Ее не сломали. Здесь почему-то была у него жуткая идея, что сначала люди должны предать себя. Вот это меня все время мучает, понимаете. Ведь, в конце концов, эти… Там совершенно были, правда, очаровательные разговоры. Там следователь, когда тот говорит, что «нет-нет, я никакого отношения к террористической организации не имел», тот говорит: «Если начальство сказало, что ты имел, что ты мне говоришь?». Поэтому там было все, понимаете. Фарс, катастрофа, а это – когда он допрашивает, а вы же знаете, наши не очень это знают, что были, продолжалось идеологическое образование, и люди сдавали краткий курс. И он допрашивает старого большевика, задает ему вопросы, объясняя, что у него завтра экзамен.
А.Венедиктов― Это была история. Эдвард Радзинский в эфире «Эха Москвы», мы продолжим после новостей.
НОВОСТИ/РЕКЛАМА
А.Венедиктов― Эдвард Радзинский, мы продолжаем говорить. Все-таки действительно какой-то сюр происходит. Люди, которые стояли насмерть перед жандармами, которые сидели в Туруханске, о которых вы рассказывали, которые не сдавали своих, вдруг начинают рассказывать, сдавать друг друга, подписывать, клясться в верности вождю.
Э.Радзинский― Вы знаете, наверное, это будет исследованием тех, кто придет после нас, тоже.
А.Венедиктов― Но нам тоже интересно.
Э.Радзинский― Дело в том, что я, по-моему, уже это говорил. Было замечательное письмо Пятакова, одного из главных звезд процессов Валентинову. Валентинов тоже социал-демократ, который дружил с Лениным и так далее, но который ушел от большевиков и остался в Париже. Пишет ему вот это простое объяснение, как я его называю, простым. Он пишет, что «мы партия, которой никогда не было. Потому что партия для нас – это самое главное. И если для партии надо отдать честь, совесть, семью и так далее, мы это делаем. И насилие, которое мы направляли на других, мы можем направить на себя, когда требует партия. И если партия – сакральна, она требует, чтобы то, что я выносил, как убеждение, годами, я изменил по ее требованию, я должен это сделать 24 часа, как бы мне ни было тяжело», — говорит он. Это объяснение, которое, вы знаете, продолжение слов Троцкого. Ведь формула «партия не ошибается» — это формула Троцкого. Партия не ошибается. И если черное она требует, чтобы вы объявили белым – то вы должны это сделать, потому что партия – самое совершенное, что создано человечеством. Это было известно. И поэтому Иосиф Виссарионович, как мы с вами раньше договаривались, захватив большинство в партии, имея графу в уставе, что никакой оппозиционности, никакой фракционности быть не может, он был абсолютно свободен в этом самом приказе что говорить. Это первое. Но знаете, иногда я думаю, что это второе. Боюсь. Вот Бухарин, он пишет, заставляет жену выучить свое обращение к партии. Она предупреждает его, как я уже, по-моему, рассказывал: «Ты только там не лги!». И он уходит, чтобы не лгать. Но вот он сразу же пишет, что все хорошо, со мной обращаются уважительно, и так далее. Со мной носятся, — пишет он. И ее действительно вначале, я тогда это рассказывал, зовет следователь, показывает ей, предлагает ей чаю сладкого, говорит, вот, Николай Иванович такая сладкоежка, мы вот с ним пили. А она зло говорит: «Может он здесь в санатории сидит?». Тот говорит, что «если так, то мы больше с вами не встретимся». Но она готова иначе, и встретиться не придется – он исчезнет вместе со всеми. Это же не придумаешь. Вся ЧК, которые все сподвижники Дзержинского к 37-го году, к 20-летию, как метлой все будут выметены. И торжествующий маленький этот уродец, карлик Ежов, которого Джамбул, поэт был такой, который воспевал, будет называть «батыром», хотя он был карлик, и будет его рисовать с ежовыми рукавицами огромными… уничтожит их и будет уничтожен сам. Там самое трогательное – это пули.
А.Венедиктов― Я только хотел спросить. Это не забывается никогда. Расскажите, не все слушатели знают про это.
Э.Радзинский― Да, это пули. Дело в том, что когда расстреляли Зиновьева и Каменева, Ягода все-таки дал слабину. Для него они оставались историческими фигурами. И вырезали эти пули, и он взял их. И потом эти пули перекочевали в следственное дело Ежова, где и остались. Потому что расстреляют Ягоду, и Ежов взял эти пули себе, и там, на них, в таких оберточках, написано: Зиновьев и Каменев. Так они и остались в этом деле. Берия их не взял, он понял, что, все-таки в нем было, что это эстафетная палочка, которую они заботливо передают друг другу перед тем, как главный кукловод отправит их всех туда. И вы знаете, вот здесь, чтобы не забыть. Я не знаю, мы три раза, третий раз встречаемся. Может быть, я это и говорил. Но я с удовольствием повторю это еще раз. Все эти разговоры серьезных ученых о партиях, которые складываются, там, Маленков с Берией против Жданова, такого-то… Иосиф Виссарионович, который как бы, практически жертва этих хитрых партий – это такая чепуха. И наш народ, прозорливый народ, который всю свою историю заботливо излагает в анекдотах, он все это изложил. Он сказал: «Иосиф Виссарионович – это великий химик, который из любого дерьма может сделать великого политика и любого политика, самого великого, превратить в дерьмо». И он этим занимался до самого конца. И когда мы говорим, мы с этого начинали, когда Хрущев начнет рассказывать, как он стал старый, как он немощный, как он выступал на съезде и всего 7 минут говорил, а потом вышел и говорит «я еще могу!», а сам 7 минут говорил. Поэтому я и рассказал, что было на следующий день, когда из 2 часов выборов, которые следовали за Съездом партии в высшие органы партии, он говорил полтора, как пишет сидевший там Симонов. И с этой бешеной яростью, с которой он обрушился тогда на будущие свои жертвы, потому что готовился огромный, гигантский процесс. Если мы это не поймем, мы ничего не поймем в том, что случилось в последние дни Сталина. Он возвращал то, что ушло в войну – называется, страх. И это была не его придумка. Он книжки читал. Вы знаете, мы сейчас перейдем сразу на его дачу, к его последнему дню. Там библиотека была. И он, позвав Шипилова, тогдашнего редактора «Правды», а до этого первого заместителя Жданова, идеолога, показывая ему книги, сказал: «Вот, Владимир Ильич читал 600 страниц в день. Сколько вы читаете?». Бедный Шипилов, до которого доходит, что читать одну книгу, и то не всю, не знает. А Иосиф Виссарионович говорит: «А я 400 страниц читаю. 400». Потом Громыко, видимо, он повысит, скажет, что он читает 500. Но он, не знаю, сколько, но он много читал.
А.Венедиктов― Огромная библиотека была.
Э.Радзинский― Которую преступно расформировали, потому что это же не просто библиотека. Это надписи на полях и на книге прямо карандашами. И поэтому Каутский, который выступает против террора и боевиков, получает отметку «Ха-ха». Это часто. А вот Троцкий терроризм в книжке «Терроризм и коммунизм», по-моему, называется, а может, иначе, но терроризм там есть, получает N.B. «Правильно!!!» — восклицательные знаки, и так далее. К сожалению, она была расформирована и мы не можем сейчас точно сказать. И поэтому мы с этого начали. На книге о бывании Грозном остались надписи: «Учитель, учитель, учитель». Это безумно интересно для того, чтобы действительно понять партию, которую Иосиф Виссарионович справедливо называл орденом меченосцев, подчеркивая сакральность партии, что члены могут совершать ошибки, а партия сама – она остается. Поэтому неважно, что уже никого не осталось из тех, кто создал эту партию, что все они лежат в трех местах – Бутово-Коммунарка-Донской монастырь, могилы невостребованных прахов №1, но неважно. Партия остается. Она, как люди грешны, учения нет. Вообще, безумно интересен он, ведь эти бедняги-эмигранты, они же ошиблись. Они начали говорить, что Россия теперь редиска. Она только сверху красная, а внутри она уже белая. И этот, не буду его называть, с торжеством сказал, когда шли эти все жуткие процессы: «Много крови надо пролить, чтобы родить российского самодержца». И вы знаете, притом реакция людей, вот это удивительно, уже была совершенно другая. Вот директор МХАТа Аркадьев. Его назначили по просьбе Станиславского. Он и дипломат, он и занимался много культурой, он блестящий человек. Но, как пишет Булгакова в дневнике, «Читает и разбудила Мишу: Аркадьев-то арестован!». Дмитриев – это знаменитый художник, главное, сейчас, только что, была его выставка. Сценограф МХАТовский блестящий начинает бешено хохотать, потому что Аркадьев должен был дать ему квартиру. И он рассказывает, как он сказал об аресте Аркадьева Книппер-Чеховой, и как та, заламывая руки, кричит, почти плача. И Булгаков, который необычайно артистичен, он показывает, как она в белом пеньюаре заламывала руки и хохочет. В этом смехе уже дьявол, и Булгаков, который хохочет, очень скоро не сможет гулять один, как напишет та же жена. И она будет его уже сопровождать по улицам. Это обрушилось на страну. Сейчас я скажу про Рыбина, охранника Сталина, которого он, как тот хорошо играл на гармошке, отправил в Большой театр. Тут Рыбин описывает, чтоб нам лучше понять. Его сделали, а он отвечает за правительственную ложу, в которой должен сидеть Сталин. И вот репетирует правительственный концерт в 37-ом году. Половина, — пишет он, — сидит руководство Большого театра. Концерт репетируют ночью. Он лег поспать. Проснулся, — пишет он, — второй половины нет. Вторую посадили. И я теперь, — с торжеством пишет он, — военный комендант Большого театра. И вот под этот смех, ужас, слезы, шла эта катастрофа. И как мы рассказывали, при этом, балы в Парке культуры и отдыха, футбольные команды, которые приезжают, парады. И все это под марши и гром этих маршей. Но мы сейчас все-таки, потому что… ну, по письмам, я знаю, что все-таки писали в последний день Иосифа Виссарионовича. Мы потом перейдем к нему, что случилось. А сейчас я кратко все-таки расскажу.
А.Венедиктов― Мы знаем, когда был последний день?
Э.Радзинский― Да.
А.Венедиктов― Ой.
Э.Радзинский― Дело в том, что, как напишет Симонов через четверть века… Я до сих пор не знаю, это Симонов, член ЦК, довереннейшее лицо, видевший Сталина бесконечное количество раз, член комиссии по сталинским премиям, описавший тоже куски совершенно очаровательной игры Иосифа Виссарионовича во время этих присуждений. Он пишет: «Сейчас, через 25 лет, я не знаю, как же это произошло это умирание». И действительно, ведь никто тогда не знал, что дело было на даче. Считалось, что он умер в Кремле. И ходили эти замечательные легенды. Мы должны… Я помню эту главную легенду, что охрана сообщает Хрущеву, что Иосифу Виссарионовичу плохо, он потерял сознание. Они все едут туда – Берия, Маленков, Хрущев, — и видят распростертого на полу Сталина. Но вдруг они видят, что он уже начинает шевелиться и слышат первые слова. И Хрущев бросается к нему и начинает его душить. И они его задушили. Это была одна из бесчисленных легенд о смерти Сталина, потому что страна знала уже, что приезжали на дачу, что были эти застолья и так далее. Как я рассказывал уже, я в 89-ом году должен был опубликовать записку Юровского о гибели царской семьи. Это должна была стать первой публикацией. Кроме того, у меня уже были показания неопубликованные ряда охранников – не охранников, а охраны Ипатьевского дома, которые участвовали в расстреле. И я тоже собирался это дело опубликовать в «Огоньке», как и первое. И я ходил в Музей революции, у них был архив, и там, занимаясь документами о расстреле царской семьи, я нашел, меня совершенно поразивший, кусочек из воспоминания Рыбина. Оказалось, что за год до вот этой записи Симонова Рыбин собрал всех, кто был в ту судьбоносную ночь на даче Сталина, охранников, и взял с них показания. Это были Старостин, как написано, главный охранник. Сейчас я уберу слово «охранник», чтобы было ясно. Дело в том, что у Сталина была охрана, была наружная охрана вокруг дачи, была охрана вдоль забора, была охрана перед забором и так далее. Но внутри дачи была тоже охрана. Это были так называемые, они себя называли, прикрепленные. Сотрудники для поручений при Иосифе Виссарионовиче Сталине. И читая, я понял, что их, видимо, было трое. И Рыбин в этих показаниях они пишут. Старостин – я почитал, ничего интересного. «Сталин долго не выходил из своих комнат, и уже после семи мы стали беспокоиться. И послали Лозгачева узнать, что с ним произошло. Он долго не хотел ходить, потому что не было звонка из комнаты, но потом пошел и нашел товарища Сталина на полу. Дальше я бы уже прекратил, но… Дальше были показания Лозгачева. И второго прикрепленного Тукова. И там было то, что, меня, конечно, совершенно изумило. Оказывается, в этот день, с изумлением пишет Лозгачев, Иосиф Виссарионович отдал распоряжение, которого никогда не отдавал. Он сказал: «Я иду спать. И вы тоже идите спать. Больше вы мне не понадобитесь». Такого, — пишет он, — мы никогда не видели. И дальше шло показание Тукова – точно такое, как показание Лозгачева, с той же фразой. Такого распоряжения мы никогда не слышали. Поэтому я понял, что, возможно, я сумею написать не только о гибели царской семьи… а последнего царя. А о гибели первого царя, большевицкого. И это как-то входило в то, чем я собирался заниматься. Но для этого я решил встретиться с Лозгачевым. Самое удивительное, что я нашел его телефон. Нормально, в телефонной книге. Я позвонил, и мне было безумно смешно тогда. Я понял, что он боится. Уже перестройка четыре года – он боится. Он начал говорить, что он занят, так далее. Я бы бросил. Я ленивый, я бы даже обрадовался, что… я потом еще раз позвонил. По-моему, на третий раз я себе дал слово, что я освобожусь от этой миссии. Я ему позвонил и он согласился. Тогда я не понимал, что странно не то, что он отказывается, а странно, что он согласился. Я ведь не знал, что они все были под подпиской неразглашения о том, что происходило на объекте. Они не называли, у них не было слова «дача». Слово «дача» было засекречено, было только «объект». И он получал пенсию в это время от той организации, которой он обещал эту, видимо, обязанность и клятву. Это же присяга. Но он согласился. Вы знаете, мы с ним встретились в метро, в начале «Кутузовской», по-моему. Он там жил, в этих домах, которые к Олимпиаде строились. Он был маленький, очень крепкий. Иосиф Виссарионович любил небольших людей, у него и Ежов был не очень большой, прямо скажем… Да и Власик был тоже. И мы пошли к нему домой. И дальше я попросил, я попытался, хотел записать его с магнитофоном, и он сразу среагировал. И он разрешил записывать ручкой. И мы начали.
А.Венедиктов― Эдвард Станиславович, вот на этой замечательной ноте мы прервемся до следующего раза. И начнем в следующий раз с этого разговора.
Э.Радзинский― Нас убьют.
А.Венедиктов― Нет, они будут ждать и терпеть.
Продолжение следует…
––––––––––––––––––––––––––-
* Сталин имел различные телесные дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге, лицо в оспинах. В 1885 году Иосифа сбил фаэтон, в результате чего мальчик получил сильную травму руки и ноги, и вследствие этого на всю жизнь левая рука осталась короче правой и плохо сгибалась в локте. У Сталина был маленький рост — 169. В связи с этими особенностями внешности, по мнению Ранкур-Лаферьера, Сталин с детства мог испытывать чувство неполноценности, что могло сказаться на формировании его характера и психики.
** Имена, псевдонимы и прозвища Сталина: Иосиф Виссарионович Джугашвили, Сосо, Сосело, Бесо, Бесошвили, Петр Чижиков, Осип Коба, Рябой Оська, Чопур, Оська Корявый, Коба Сталин, И. Джугашвили-Сталин


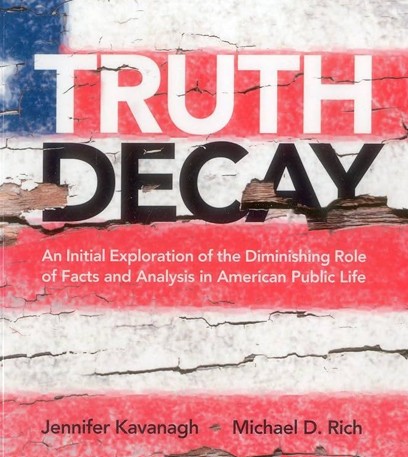





Что сделали с родственниками жён Сталина?
Среди родственников Сталина тоже оказалось немало «шпионов», «отравителей» и «предателей».
Сванидзе
Первая жена Сталина, Екатерина Сванидзе (1885 — 1907), рано ушла из жизни. Сгубили её туберкулёз и тиф. Будущий глава советского государства, а тогда — большевик-подпольщик — искренне горевал по своей «Като» и остался дружен с её семьёй. Их сына Якова воспитывала тёща, с Иосифом поддерживали близкие отношения брат и сестра почившей жены: Александр (и его жена Мария) и Мария Сванидзе. После революции Александр стал наркомом финансов в Грузии, а позднее — зампредседателя Внешторгбанка; нередко бывал в гостях у Сталина в 1930-е гг.
Почему Сталин решил избавиться от Александра — наверняка мы никогда не узнаем. Это произошло в декабре 1937 г. Сванидзе арестовали и обвинили в антисоветской деятельности, связях с испанскими троцкистами и шпионаже в пользу Германии. Свою вину он признавать отказался. Долгое следствие завершилось приговором к смертной казни. Сталинского шурина расстреляли в августе 1941 г. Реабилитировали его в 1956 г.
Екатерина Сванидзе. Источник: Wikimedia Commons
Вслед за Александром арестовали его жену Марию, оперную певицу, и осудили на 8 лет заключения за всё ту же антисоветскую деятельность и поддержку мужа. Ещё больший срок — 10 лет — получила Маро Сванидзе, сестра Александра и Като.
Аллилуевы
Утром 8 ноября 1932 г. вторую жену Сталина — Надежду Аллилуеву (1901 — 1932) — обнаружили мёртвой. Её отношения с мужем были очень сложными уже давно. Народу было объявлено, что она скончалась от аппендицита.
Как и в случае с родственниками первой жены, Сталин находил утешение в дружбе с Аллилуевыми, с которыми мог разделить своё горе: пусть и на свой лад, но он любил Надежду. Довольно близки к нему были её брат Павел и его жена Евгения Аллилуевы. Павел, профессиональный военный, в 1930-е гг. стал комиссаром Автобронетанкового управления РККА. 44-летний Павел вернулся в Москву из санатория, сел за работу в своём кабинете и умер от инфаркта. Возможно, отец Павла и тесть Сталина Сергей Аллилуев неспроста на похоронах обронил фразу: «Павлуша кому-то помешал».
Жена Павла Евгения была арестована в 1947 г. по нелепому обвинению — якобы это она отравила своего мужа. Больше 6 лет Аллилуева провела в одиночной камере, откуда вышла только после смерти Сталина. Их с Павлом дочь Кира (1920 г. р.), вскоре после матери тоже подверглась аресту; как и мать, реабилитирована в 1950-е гг.
Сестра Надежды Аллилуевой Анна и её муж Станислав — следующие в списке жертв репрессий, организованных их родственником. Станислав Реденс и сам имел отношение к карательной машине Сталина: возглавлял ГПУ в Закавказье, а затем в Украине и Московской области. В ноябре 1938 г., когда Реденс уже был наркомом внутренних дел Казахстана, его арестовали и обвинили в шпионаже в пользу Польши, тайном меньшевизме, приписках, саботаже, заговоре и казнях невиновных. 12 февраля 1940 г. Реденса расстреляли. Реабилитирован в 1961 г.
Сталин и Надежда Аллилуева. Источник: telemagazyn.pl
Анна Аллилуева в виновность мужа не верила. В 1948 г. Анну арестовали и после обвинения в шпионаже также заключили в одиночную камеру. Она получила свободу и реабилитацию, как и Евгения Аллилуева, лишь когда Сталин умер. К тому времени у неё обострилась семейная болезнь — шизофрения; тюрьма подорвала её здоровье.
Дочь Сталина и Надежды Светлана утверждала впоследствии, что однажды спросила отца, за что тот так поступил с её тётками, и получила ответ: «Болтали много. Знали слишком много и болтали слишком много. А это на руку врагам».
Аресты родственников ясно демонстрировали всем, что неприкасаемых нет, что каждый должен задуматься — если Сталин сажает и расстреливает родных, то те, кого он называет «соратниками», точно не получат пощады, если чем-то прогневают вождя.
Еще от Е.Р.:
„Hаш великий Карамзин многое объяснил, рассказывая о другом деспоте Иване Грозном. «Свидетели и жертвы его злодеяний сошли в могилу. Документы об Ивановых зверствах пылились в архивах». К тому же, время стёрло в памяти новых поколений прямую связь между казнями Ивана, истребившего цвет русского боярства, и наступившей впоследствии Смутой едва не уничтожившей русское государство. Так что новым поколениям остались видны только памятники государственной силы и великих побед. И постепенно имя «Мучитель», которым называли его современники, сменилось на очень уважаемое в Азии имя «Грозный». Но История, пишет Карамзин, памятливее людей, История помнит — «Мучитель»… Советую не забывать эти слова великого Карамзина. Так же, как вопрос, который он задал: «Народ ли наш порождает таких правителей или такие Правители порождают такой покорный готовый терпеть народ?».
+
C большим сожалением: нынче к почитателям Вождя присоединяется совсем другая группа. Это молодые люди, которым не нравится жизнь за окном. Им опротивел главный дирижёр нынешней нашей жизни — Деньги. Осточертело наблюдать роскошную жизнь властей и всероссийскую коррупцию, ставшую бытом, и жаркие объятия политиков с героями капиталистического труда. Ведь, в отличие от них, Сталин действительно презирал деньги. И быт Хозяина был крайне скромен. Но, презирая деньги, он умело пользовал их, щедро награждая, точнее, разлагая верную партократию… Впрочем, блага у них были лишь до тех пор, пока он позволял им служить ему и… жить.
„